Melior optime pessima.
Лучшее лучше худшего (лат.)
На первых днях этого года В.А. Кокорев высказал в «Новом времени» свое мнение о купцах, получивших чины действительного статского советника. По мнению г. Кокорева, таких купцов не для чего титуловать «превосходительствами», а довольно называть их «высоко-степенствами». Это, кажется г. Кокореву, как будто ближе подходит к торговому положению упомянутых генералов и более отвечает народному представлению о разнице в сановитости людей служилых и людей торговых.
Без сомнения, в народном рассуждении о генералах есть разница: ина слава принадлежит солнцу, ина же воздается луне, и звезда от звезды разнствует, а между тем титул «превосходительства» ассимилирует во едину стать всех удостоенных. В этом его преимущество, но в этом же его недостаток, против которого в России давно уже слышится сдержанная, но очень едкая горечь. О ней еще говорил Леруа Болье, заметивший в своем любопытном сочинении о России, что у нас необыкновенно много «превосходительств» и что чрез это названный титул у нас не только совсем пал и утратил свое возвышающее значение, но он даже служит теперь к некоторой шутке и насмешке.
В словах г. Кокорева видна та же горечь и желание защитить превосходительный титул от посягательства на него со стороны людей торгового звания, а равно оградить и самих этих людей от неблагоприятного воздействия на них превосходительного титула.
Так как обстоятельного и специального «сочинения о «генералах» в нашей литературе нет (ибо труд П.И. Чичикова в печати не появлялся), то вопрос о вреде или о пользе от большого размножения превосходительных лиц может быть трактован очень свободно, но он прежде всего нуждается в верном фактическом представлении положения, в каком находится «превосходительство».
Заботы Кокорева могут много помочь купечеству, если знатность по чину купцам вредна, но что касается самого превосходительного титула, то он не много выиграет от того, что его не будут прилагать к тайным советникам из людей торгового сословия. По правде говоря — идет им это или не идет, но ведь их покамест еще очень немного. Одни департаментские делопроизводители или столоначальники ежегодно дают такой прирост в генеральстве, что оскудения никогда не произойдет, и собственно чину превосходительства не поможет эта крохотная очистка.
С превосходительным титулом у нас в самом деле происходит нечто очень странное и неблагоприятное для его возвышающего значения. Г-на Кокорева стоит благодарить, что он заговорил об этом. Манера заменять собственное «крестное» имя человека титулом, который даст известный чин, имеет нечто неприятное, и многие давно говорили об этом как о вредном обычае, который пора бы оставить, не для одних купцов, а для всех вообще, — по крайней мере вне службы.
Как от этого одни сами отбивались, а другие прочих сдерживали, это представляет картинку, или, лучше сказать, ряд картинок, которые, может быть, не скучно будет теперь перепустить перед глазами, по случаю возбужденного г. Кокоревым интереса к «истории о генералах».
В нашем флоте в самую блестящую его пору, при командирах, имена которых покрыты неувядаемою славою и высокими доблестями чести и характеров, все избегали употребления титулов в разговоре. Там крепко жил простой и вполне хороший русский обычай называть друг друга не иначе, как по крестному имени и отчеству. Не только капитан корабля, но и адмирал, командующий эскадрою, называли офицеров по имени и отчеству, а офицеры точно так же называли своих старших, то есть их именами и отчествами, а не превосходительствами. Таких славных героев, как Нахимов и Лазарев, подчиненные с семейною простотою называли в разговоре Павел Степанович, Михаил Петрович, а эти знаменитые адмиралы в свою очередь также называли по имени и отчеству офицеров. По титулам чина или по уряду должности величали только тех, кого не знали как звать по имени, и это считалось за неудобство, для избежания которого старались немедленно узнать имя и отчество человека. Такого простого обычая держались все, и флот дорожил этою простотою; она не оказывала никакого дурного влияния на характер субординации, а напротив, по мнению старых моряков, она приносила пользу.
«Чрез произношение имени, — рассказывают старые моряки, — все приказания начальника получали приятный оттенок отеческой кротости и исполнялись с любовью; а ответы подчиненных с таким же именованием старшего придавали всяким объяснениям и оправданиям сыновнюю искренность».
Многие почтенные люди из старых моряков вспоминают об этом обычае с большим сожалением, что он вывелся и заменился отношениями «общеармейского образца». Но стоит ли это сожаления на самом деле?
Моряки всегда немножко суеверны и имеют много примет, но если верить их приметам, то они, кажется, имеют основание жалеть, что их старый морской обычай «семейности» заменился «образцом общеармейской форменности».
«Во все это время, пока мы говорили друг другу по-человечески, — замечают моряки, — флот наш не знал служебных злоупотреблений низкого свойства: офицеры гнушались лжи, и не было ни взяток, ни обманов. Мы себя берегли от этого».
Обычай называть друг друга по именам стали подрывать нововведениями в балтийском флоте, «поблизости к Петербургу», но на Черном море именословие продолжало держаться до самой севастопольской катастрофы, когда черноморский флот уничтожился и остатки черноморских морских офицеров пошли вразброд. В печальном рассеянии они позабыли старые предания своей семьи, и те, которые смешались с балтийцами, научились у них употреблять в разговоре титульные обороты.
Утраченный «обычай доброй простоты» оставался дорог многим из моряков и имел своих маньяков, для которых представлял своего рода мистическое значение. В доказательство его живучести стоит воспомянуть об одном из таких маньяков, каким был не очень давно умерший контр-адмирал Андрей Васильевич Фрейганг. Это был превосходнейший человек, которого кто знал, тот его и любил и уважал за его необыкновенную чистоту и добрую душу. Его знали множество людей, и из них, конечно, многие еще живут нынче. Он был «политик вне партий» и «золото без лигатуры»; ему был друг славянофил Гильфердинг, и он пользовался особенным уважением Каткова. К Фрейгангу Катков чувствовал сердечное влечение и не раз говаривал: «чтобы немножко себя освежить, надо в Фрейганга посмотреться». Худой, слабый здоровьем, но живой, подвижной и беззаветно добрый старичок, обвязанный гарусным шарфиком и с кортиком, который постоянно ерзал на его тощем тельце и сбивался с бока назад или наперед, Андрей Васильевич всегда о чем-нибудь хлопотал или кого-нибудь устраивал. Он беспрестанно являлся где-нибудь «просителем за людей», и притом просителем самым неотступным, настойчивым и бесстрашным. Чуть, бывало, при нем скажут о чьем-нибудь горе или несчастье, он сейчас придет в беспокойство — слезы на глазах, и начинает себя допрашивать: «Кого я знаю? Кто может помочь? К кому побежать?» И как только вспомнит — сейчас «побежит». Но о себе и о своем семействе он не просил никого и жил на самые крошечные средства. Словом, это был превосходный и редкий человек, которого при жизни его называли «праведником» и «Нафанаилом, в нем же лести несть»! Между тем в ряду забот Фрейганга было большое печалованье об исчезновении простоты во взаимных отношениях во флоте, — он не мог примириться, что у них «прежде говорили друг с другом по-человечески, а потом стали упоминать потитульно». В этом Фрейганг видел «начало болезни», которая непременно принесет большой вред всему организму. Михаил Никифорович) Катков один раз слушал, слушал, как Фрейганг об этом рассказывал, и говорит после:
—Что это такое за прелесть! Он говорит, точно будто Давид на арфе играет, — все досады и неприятности при нем успокаиваются.
В одно время М<ихаил> Н<икифорович> имел деловые свидания с графом Петром Андреевичем Шуваловым.
Случалось, что сильно впечатлительный Катков даже «укрывался» в идиллический домик на Песках, где жил Фрейганг, и говорил, что он там находит успокоение. Но послужить восстановлению крестных имен во флоте Катков, разумеется, не озабочивался, а Фрейганг об этом помнил и обнаружил свой мистицизм.
Когда пронесся слух, что в морском ведомстве обнаружилось первое большое злоупотребление, Катков случился в Петербурге и жил на Сергиевской, в доме Зейферта. Один раз, когда здесь говорили об упомянутом слухе, вдруг в комнату вбегает торопливой походкой в своем шарфике Фрейганг и говорит с волнением:
—Слышали? Совершилось! страшное пророчество совершилось!.. Ужас, позор и посрамленье! наши моряки, наши до сих пор честные моряки обесславлены: среди нас есть люди, прикосновенные к взяткам!.. А он это предсказывал, я это напоминал, я говорил, что это предсказано, и это так сделается, вот и сделалось — и исполнилось, как он предсказал.
—Кто предсказал?
—Павел Степаныч!
—Какой Павел Степаныч?
—Как «какой Павел Степаныч»!.. Нахимов!
И Фрейганг рассказал какой-то давний случай, когда покойный Нахимов был недоволен каким-то продовольственным распорядителем или комиссионером и стал его распекать, а тот, начав оправдываться, стал беспрестанно уснащать свою речь словами «ваше превосходительство». Это так взорвало адмирала, что он закричал:
—Что я вам за превосходительство! Что это еще такое! Вы имени моего, что ли, не знаете, или прельщать меня превосходительством вздумали? У меня имя есть! Это вы ваше превосходительство, а моряков нельзя так звать, они вашим ремеслом не занимаются. Тогда их можно будет «так» звать, когда и они этим станут заниматься.
Праведный бедняк, адмирал с петербургских Песков, глубоко верил, что, перестав называть друг друга по именам, а начав величать по титулам, — моряки подверглись роковой порче.
Замечают тоже, что имя при настоящей заслуженной известности человека приобретало у нас такую известность, что самые фамилии делались ненужными для более точного обозначения лица.
В Орле один купец, тяжко оскорбленный в сороковых годах неистовством губернатора Трубецкого, выйдя из терпения, сказал ему:
—Тиран! я больше не боюсь, что ты князь, я Николаю Семеновичу пожалуюсь.
—Какому Николаю Семеновичу! — закричал Трубецкой.
—Тому, который стоит за правду.
И замечательно, что Трубецкой, человек невежественный и, по выражению еп(ископа) Смарагда, — «умоокраденный», узнал, однако, кого ему называют, и с злорадством воскликнул:
—Мордвинова больше нет!
Никакой курьер из самых зычных, прокричав: «генерал идет», — не может внушить того впечатления, которое ощущалось, когда, бывало, кто-нибудь шепнет на московском бульваре:
—Вон Алексей Петрович топочется.
Мало ли в Москве было разных Алексеев Петровичей, но все знали, что так называют Ермолова и что перед этим тучным, тяжело передвигавшим свои ноги стариком надо встать и обнажить головы. И все почтительно поднимались и кланялись ему иногда в пояс. Это делалось с удовольствием, не за страх, а за совесть.
Тут была, впрочем, немножко и манифестация: кланяясь старику, как бы заступались за него и сожалели, что его «Ерихонский забил». (А от Закревского отворачивались— будто его не видели.)
Этого же Алексея Петровича при настоящей смете надо вспомянуть и по другим причинам. Самого Ермолова, разумеется, не принято было титуловать «превосходительством», а его просто звали Алексеем Петровичем или «батюшкою Алексеем Петровичем», но едва ли не он первый ввел у нас вышучиванье чиновных титулов.
Алексей Петрович звал своих лакеев «надворными советниками», а ему любили подражать и другие, и с него пошла по Москве мода звать «надворных советников» как птиц на свист или «на ладошку». Из домов мода давать лакеям эту несоответствующую кличку перешла в те гостиницы, где прислуга «ходит по-штатски». Потом это в числе образцов московского барского тона было привезено в Петербург и получило здесь широкое применение. Лакеев начали звать «советниками» в домах и ресторанах, а потом и в трактирах низшего сорта, где посещающая публика «отливает серостью», а «услужающие подают во фраках». Таких услужающих «серый гость» и теперь зовет на клик: «надворный советник».
—Советник, подай пару чаю!
Князь Мещерский (то же имя) иногда кое во что попадает, и он верно замечал, что у нас, к сожалению, высшие не всегда подают лучший пример низшим, а напротив, растлевают целомудренность простолюдина,
С титулом «превосходительства», впрочем, произошло еще несколько других случайностей, о которых стоит отметить.
Когда стало очень много людей, крестные имена которых вышли из употребления со дня производства этих лиц в чин, дозволяющий ставить титул «превосходительства», то началось большое затруднение: как различать и помнить, кто из штатских в каком чине? А между тем многие штатские генералы довольно обидчивы, и никому нет охоты оскорблять их умалением чести. Отсюда в обществе явилось опасение: как бы не ошибиться, и тогда, по пословице «лучше перебавить, чем недобавить» — пошли ставить всем «превосходительство». Кому надо и кому не надо — все равно, пусть получает приданье чести и не обижается. Делалось это по самым серьезным соображениям: «да тихое житие поживем во всяком благочестии», но повело к другой неожиданности: чрез эту сообразительность «превосходительство» явилось сеянное и не сеянное. Куда ни склонит слух свой почтительный человек, везде он слышит «превосходительство», а разберется делами, и узнает, что он принимал за генерала «какую-то фитюльку»,
Чтоб выйти из фальшивого положения, оставалось обижаться (на кого?) или самому над собой хохотать.
Это легче.
Юмористический же и наблюдательный ум нашего простонародья всю эту картину созерцал, подметил, что в ней смешно, и началось повсеместное вышучивание «превосходительства». Начался ряд шуток, сколько колких и неуважительных, столько же неуловимых и неудобонаказуемых. В городском простонародье теперь величают «превосходительствами» всех, «которых солидность позволяет». Отсюда постоянно можно слышать, как городской простолюдин, один спроста, а другой с лукавиной, величают превосходительством почтового приемщика, акцизника, торгового депутата и особенно полицейского пристава, а иногда даже и околоточника, если он «фасонист». Всяк, к кому есть нужда или просьба, титулуется от просителя «превосходительством», и титулуемый это приемлет и ничесо же вопреки глаголет. Иногда же такое «величание» проделывается и без всякой нужды, прямо на смех, чтобы безнаказанно вышучивать какую-нибудь мелкую особу и вместе с тем опошлять звание обязывающее к почтительному отношению. Любой разносчик и загулявший мастеровой, титулующий «превосходительством» околоточника, которого он за глаза зовет «фараоном», конечно знает, что он издевается над тем, кого дразнит «превосходительством», но остановить его невозможно; он за это ничего не боится, потому что он будто опасается ошибиться, и он упорно продолжает приставать на гулянье:
—Ваше превосходительство, пьян я типерича или еще не пьян? Разреши!
Словом, на улице городской народ сумел испортить «превосходительству» всю линию, и здесь теперь у нас ad libitum [по желанию (лат.)] всяк стал «превосходительство», а чего много и что не в редкость, то и не в почете. Самые большие и самые постоянные обожательницы генеральского звания — петербургские кухарки, и те уже перестают гордиться житьем у генералов. В одном сатирическом журнале кухарка жалуется другой, что «теперь всяк говорит: я сам себе генерал». Иного рода и характера смятение доставляет «превосходительство» в домашних беседах и в коллегиальных заседаниях: тут «превосходительство» как бы отомщевает за себя тем, что портит разговорную речь беспрестанной присыпкой: «я вашему пшесгву говорил», «нет, ваше пшество мне не говорили», «ах, ваше пшество, верно, не расслышали». И так далее до бесконечности и, можно сказать, до тошноты. От этого неуместного и смешного присказничества страдает и наполняется канцелярского безвкусия русская живая речь, и это не только в заседаниях, где тоже надо бы говорить дело, а не комплименты, но даже и в гостиных, при дамах. Есть чиновные дома, где и самих дам отитловывают... Все это давно осмеивается, но тем не менее все это продолжается и ныне дошло уже до такой степени пресыщения, что умный человек из купечества поднимает голос, чтобы оградить от такого события свое торговое сословие.
Сыты!
Что касается надписаний на конвертах, о чем упоминает г. Кокорев, то надписи в русском вкусе бывают очень разнообразны. Пишут купцам: «его чести», «его милости», «его степенству» и даже пишут и «его высокостепенству», а когда просят у них «корму», тогда титулуют их и «высокопревосходительствами». Это, конечно, так и останется, хотя бы решено было не признавать генералов из торговцев за превосходительства. «Называться» у нас можно всякому как угодно: это еще разрешено Хлестаковым Бобчинскому.
— «Пусть называется».
По части надписаний замечательно другое: почтовые письменосцы рассказывают, что наверно треть адресов нынче надписывается с титулованием адресатов «превосходительствами». Это опять, без сомнения, свидетельствует не то, что «русская нацыя» возлюбила «превосходительство», а то, что она изволит им со скуки забавляться. Я еще недавно видел проштемпелеванный письменный конверт, на котором была надпись: «Его превосходительству Александру Семенычу Бакину в своем заведении». Бакин же этот оказался трактирщик, и тот, кто адресовал письмо «его превосходительству в его заведение», конечно знал, что он пишет не генералу, а что он просто балуется — смеется над генеральством. Почтальон кидает письмо на стойку, крикнет на смех: «Генерал, получи!» — и бежит далее. Публика «грохочет». Шустрый парень похваляется:
— Дай срок, и я дяде Миките адрист с генеральством надпишу. Ребята смеяться будут.
И пишут, да и хорошо делают, потому что, в самом деле, пока человек живет, ему все чести прибывает, а другой человек издалека лишен возможности знать: на какую он степень зашелся.
В Петербурге еще недавно жил в собственном доме, на Бассейной, присяжный стряпчий Соболев. Он был известен как казуист в своем роде и кроме того написал в свою жизнь множество доносов — особенно на Некрасова, В.Ф. Корша и А.А. Краевского (он открыл, что Корш — венгерец). Черновые этих произведений проданы на вес букинисту Николаю Свешникову, а у него куплены мною. Этот стряпчий обращал внимание правительственных лиц и на злоупотребления в выставке несоответственных титулов на адресованных письмах и предлагал меры — как это прекратить. Такие письма он предлагал «не доставлять», но, вероятно, его предложение оставлено без внимания.
Большой беды, однако, во всем этом, может быть, еще нет. Покойный Аксаков предлагал когда-то сразу всех «произвести в дворяне». Тут русские люди делают нечто в том же роде: они сами себя «в междуусобной жизни» возводят в превосходительство, и таким образом все безобидно выравниваются, но значение превосходительного титула на скале серьезного почитания, конечно, так глубоко уронено, как никогда не ронялось ни «благородие», ни «высокоблагородие», ни «степенство». Но почему живой народный ум вышучивает одно «превосходительство», а не вышучивает ни благородия, ни высокородия? Не потому ли, что благородные и высокородные сохраняют за собою «имя человече», а с превосходительным титулом соединился неприятный русскому чувству обычай упразднять в разговоре человеческое имя? В одной раскольничьей книге прямо осуждается «вести речь не по имени человеку»*. Следовательно, превосходительное титулование главным образом досаждает не на бумагах, а в живых общественных сношениях между людьми. Это неважно для нас, частных людей, не призванных думать «о престиже превосходительства»— в надписях и бумагах. Так как с почина г. Кокорева теперь довелось об этом говорить, то нам дороги не адресации, а наша русская разговорная речь, — дорого наше общежитие и наш прекрасный язык с его характерною теплотою обращения, и о том, что нами в этом отношении утрачено, мы вправе напомнить обществу. Пусть генералов из торговцев пишут по бумагам как угодно, но пусть люди хранят вне службы свои имена, какие (по Феокриту) «всяк при рожденье себе в сладостный дар получает». Это может сделать само общество — даже женщины, если только они последуют завету императрицы Екатерины, чтобы входящие в дом их «оставляли чины за порогом».
______________________
* «Честь обычай изменяет и помышления надмевает». Сын одного угольщика получил высокий сан. Его стали титуловать. Отец пришел к нему и спрашивает: «Знаеши ли мя?» Сын отвеща: «Отче, не знаю уже сам себя — а како тебя могу знати».
______________________
У нас еще в очень недавние годы жили дамы, которые были к этому чутки и очень умно стояли за хороший вкус в своем доме.
Позволю себе ввести здесь маленький рассказ из собственных личных воспоминаний.
В Кромском уезде Орловской губернии, в селе Зиновьеве, жила помещица Настасья Сергеевна, рожденная кн. Масальская. Она в юности получила блестящее образование в Париже и пользовалась общим уважением за свой ум и благородный, независимый характер. Состояние у нее было среднее (пятьсот душ), но хорошо поставленный дом ее был открыт для званых и незваных. Ее очень почитали и ездили к ней издалека, не ради пышности и угощений, а «на поклон» — из уважения. В зиновьевском доме было хлебосольно, но просто, приютно и часто очень весело. Кроме того, зиновьевский дом был также в некотором роде источником света для округа. Большинство соседей брали здесь книги из библиотеки, унаследованной хозяйкою от Масальского, и это поддерживало в окружном обществе изрядную начитанность.
Когда меня мальчиком возили в Зиновьево, Настасья Сергеевна была уже старушка, но я отлично ее помню и с нее намечал некоторые черты в изображениях «боярыни Плодомасовой» (в «Соборянах») и «княгини Протозановой» (в «Захудалом роде»). О ней говорили, что «она всем дает тон», и вот что я раз видел насчет этого тона.
В губернаторство кн. Петра Ивановича) Трубецкого (которого Настасья Сергеевна «не желала видеть за грубость») прибыл из Петербурга в Орел сановник или важный чиновник Телепнев. Не могу вспомнить, какая у него была должность, но только он приехал по высочайшему повелению для каких-то расследований по делу о поджогах и о еретиках двух сел — Большой и Малой Колчевы, выселенных впоследствии на Кавказ или в Сибирь. По моему тогдашнему ребячеству неточности этих дел не разумел и теперь подробно сказать о них не могу, но только касалось это именно того о чем я упоминаю. Телепнев сам происходил, кажется, из орловских дворян, но возвысился по служебной карьере в Петербурге. В Орле он был встречен отменно и с «притрепетом»: к нему не знали как подойти, но очень радовались, что он «губернатору нагнал холоду». Все около Телепнева вертелись, искали чести ему представиться, и кто этого достигал, те ему льстили и лебезили, друг на друга ябедничали, — доносили на губернатора, на опеку и на предводителя Глебова, которого сами опять бессменно много лет кряду выбирали в ту же должность. Телепнев был, кажется, «прозорлив», он держал себя гордо и свысока «всматривался в губернатора», деяния которого, впрочем, слишком ярко горели у всех на виду. С Телепневым были два «привозные чиновники» с приснопамятными именами: Иван Иваныч и Иван Никифорыч. Эти посещали избранные дома в обществе и рассказывали, как много значит их принципал и какие он перед своим отъездом получил от государя Николая Павловича словесные полномочия. Помню, что все повторяли, будто государь, кроме данных Телепневу инструкций — еще особо в продолжительной аудиенции, «проводил его до дверей кабинета и все еще растолковывал». Что тут было правда, что неправда, ничего не знаю, но только перед Телепневым, как говорится, все в лоск клались и находили удовольствие поползать.
О святках, именно на второй день рождества, к Настасье Сергеевне в Зиновьево съехались гости — «поздравлять старушку с праздником», Собрались, по обыкновению, к обеду, с тем чтобы проводить вместе весь лень и разъехаться вечером после ужина. Собрание было пестрое: соседи дворяне, достаточные и бедные, приживалки и приживальщицы, уездный казначей из Кром, который «получал к празднику живностию за то, что не притеснял крестьян по квитанциям»; уездный доктор, дьяконица Марья Николаевна (которая была, собственно, дьяконская дочь, — робкая пожилая девушка, особенно уважаемая Настасьей Сергеевной «за добродетель и скромность»), «англофасонистый» кромской предводитель князь Александр Алексеевич Трубецкой («оратор, агроном и мот»), пышная красавица Шубина и испитой, сухой дворянин Казюлькин, по прозванию «Нетленное Фигаро». Это был, что называется, «субъект»*. Он жил в холодном, полуразрушенном доме в своем разоренном именьице при впадении Гостомли в Рыбницу, одевался в венгерку с шнурами, отлично говорил по-французски, весь свой век разъезжал по гостям на ледащей тройке в веревочной упряжи; сватался ко всем барышням и от всех получал решительные отказы, но нимало этим не обижался; довольно мило играл на цитре и охотно «представлял» на вечерах Гамлета, Танкреда и ослепленного Велизария. Домой он попадал только изредка, и то случайно и неохотно, ибо здесь, «по неосторожности своей, зависел от ключницы». Словом, сбиралось множество гостей, и вдруг, совершенно ни для кого неожиданно, из окон залы заметили еще незнакомый возок на почтовых, и через несколько минут человек докладывает о Телепневе (как его звали по имени и отчеству — не помню).
______________________
* Фамилия Казюлькин не должна никого удивлять. У нас по дмитровскому рубежу жил еще дворянин Клопиков, который был скуп, как Плюшкин, и так же, как Плюшкин, ходил с ключами, в женской куцавейке и с головою, повязанною женским повойником.
______________________
Хозяйка приказала «просить», но сама осталась на своем диване, — зато многие гости пришли в замешательство. Они закопошились и начали охорашиваться, а дьяконица Марья Николаевна тотчас же соскользнула со стула и уплыла вон в дальние комнаты к экономке. Кроме самой хозяйки, только один еще дворянин Казюлькин, по прозванию «Фигаро», стоял твердо и держал себя с достоинством. Он даже начал пощипывать свои редкие усы, что у него обыкновенно выражало неудовольствие и гнев и предшествовало часто какой-нибудь резкой и нелепой выходке.
При такой-то обстановке Телепнев вошел. Как человек воспитанный и светский, он умно представился хозяйке, получил ее привет и был усажен в ближайшее к ней кресло. Но тут сейчас и пошла порча компании; дворяне стали к Телепневу приближаться, подседать, и послышалось величание его «превосходительством».
У хозяйки раз и два тряхнулись на чепце оборки, а Фигаро начал переходить от одного гостя к другому и язвительно шептал:
—Что же вы далече сидите?., идите поближе и повеличайте его превосходительство.
Потянуло по зиновьевскому дому таким тоном, про какой тут и не слыхивали. Даже две дамы уже запревосходительствовали.
Фигаро смотрел на хозяйку с выражением ужаса и гнева и показывал ей глазами, что «это невозможно»!
—Я, мол, свое дело пополняю, я стою на страже и кричу: «Татары идут!», а ты знай, как их отражать.
Вскоре это и случилось, и Фигаро был утешен: когда один из гостей особенно зачастил «превосходительством», хозяйка извинилась и поправила его, сказав:
—Нашего почтенного гостя зовут так-то и так-то. (Она назвала Телепнева по имени и по отчеству.)
А через несколько минут, когда другой опять запревосходительствовал, — она опять сделала то же самое, и когда начал такую историю третий, то Телепнев уже сам сказал ему:
—Мое имя и отчество — если угодно—так и так.
Настасье Сергеевне это было очень приятно, а «Фигаро» перестал щипать усы, и опять настал «простой тон», как всегда бывало: гости смеялись, шутили, весело отобедали, Потом катались на тройках, из которых одною превосходно правил князь А. Трубецкой, а Фигаро выехал на своих одрах в веревочной упряжи, и в его-то ветхие сани сели самые милые дамы и барышни и с ними заезжий вельможа. Фигаро захотел отличиться, вздумал обгонять заводских коней Трубецкого и всех своих пассажиров вывалил, а одров утопил в сугробах. Дамы и сановник, вываленные в снег, возвратились в дом пешком и были в таком веселом расположении, что смеху и шуткам не было конца. Телепнев хохотал больше всех и даже участвовал в присуждении наказания для Фигаро, который должен был за свою неловкость танцевать качучу с кастаньетами в женском платье. Когда же вечером Телепнев, опешивший в город Кромы, уезжал ранее других, хозяйка провожала его до передней и, проходя с ним через библиотеку, извинилась (она любила извиняться) и сказала ему по-французски:
—Вы меня, пожалуйста, извините, что я давеча говорила всем ваше имя: у нас разговор в другой форме не в обычае. За хлебом за солью все равны... Я ожидаю, что вы мне это простили и не сочли за неуместное.
Телепнев улыбнулся, почтительно поцеловал ее руку и отвечал, что он сохранит самое лучшее воспоминание о ее милом обществе, в котором провел очень приятный день в жизни.
—Ну, а я благодарю вас еще более. И нам в вашем обществе было очень приятно. А если бы иначе, то все бы начали себя другим образом чувствовать... неодинаково... Марья Николаевна, которая в желтой шали, дьяконица, она мне большой друг, я ее уважаю за добродетели, а она бы сконфузилась и убежала, а Казюлькин очень добрый и благородный, но легко обижается и может колкость сказать.
Дворянин же Казюлькин и сам выступил на сцену: когда сановник в передней одевал шубу, он отвесил ему поклон и сказал напутствие:
—Счастливый путь и всего хорошего. Как честный человек и дворянин, прошу пожать вашу руку. Казюлькин. Очень рад, что вам было весело. Нагоняйте губернатору холоду, а сами не простудитесь, захватите от нас тепла в шубу. Я просьб не имею, но буду иметь честь вам представиться.
И он действительно ездил на своих одрах и мочалах в Орел и сделал Т—ву «визит без надобности», но не был принят и не обиделся.
—Что же такое, — говорил Казюлькин, — здесь он свой тон держит, а мы там свой выдержали. Это порядок: всякий бестия на своем месте.
Приходский иерей при погребении Настасьи Сергеевны отличился тем, что сказал действительно правдивое слово: «Сия-де была для многих примером: она о всех лучше предусматривала и учреждала в своем домостроительстве; она совмещала благородство с простотою и разум со снисхождением; она соединяла вкупе разлученные неравенством, якобы все были равны во имя всех создавшего Бога».
Исчезновение таких дававших тон обществу хозяек есть чувствительная утрата в нашей общественности, и она теперь сказывается скукою домашних собраний и всем тем, что мы видим, наблюдая всеобщее и повсеместное неумение жить сколько-нибудь весело, даже при огромнейших затратах. Веселье и ум удалились, а их заменили шум и дорогостоящая аляповость, которую раньше всех стали вводить у себя «прибыльщики» и «компанейщики», принесшие собою очень дурной пример и соблазн в общежитие.
Великорусская народная поэзия представляет самыми мелочными и ненасытными честолюбцами купцов: купец постоянно в знать лезет, он «мошной вперед прет». Не заслугами, а опять «мошной родства добывает и чести прикупает». Купец «к князю за стол мостится», купец «в пуд медаль ищет», он «с дворянином ровняется», дочь за майора выдает, за сына боярышню сватает, на крестины генерала просит и т.п.
Малороссийская поэзия, изобилующая наивным юмором и ирониею, тоже уловила и осмеяла эту черту, представив, как русским купцам везде всё кажутся чины и знатность. Это находим в смешной песенке, как «комарь с дуба упал». Он летел с страшным стуком и грохотом и расшибся до смерти; а хохлы подняли своего комаря и похоронили его с большою почестью. Они «изробили комарику золотую трумну (гробницу), красным сукном ее одевали, золотыми цвяшками ее обивали», а потом «высыпали (то есть насыпали) комарику высоку могилу». Могила далеко завиделась. Тут сейчас и появляются великорусские купцы из Стародубья. «Едут купцы-стародубцы, пытаются: що се за покойник: чи то грап, чи князь, чи полковник?» Иначе купцы не могли себе представить, чтобы народная любовь и усердие могли бы кому-нибудь «высыпати высоку могилу». Но малороссийские паробки, стоя на могиле своего комаря, внушительно отвечают «купцам-стародубцам»:
Се не грап, не князь, не полковник,
А се лежить комарище — на все вiйсько’ таманище.
Так будто «хлопци втерли носа московьским купцам-стародубцам» и сами остались великолепно сидеть и думать на «высыпанной комарику высокой могиле».
Пресыщение важностью, о котором заговорили после получения превосходительных титулов торговыми людьми Ветхого и Нового закона,— тоже завели у нас купцы. На этот счет можно найти подтверждения у князя М.М. Щербатого в книге «Об упадке нравов в России» и еще более в любопытнейшей книге Е.П. Карновича «Богатства частных лиц в России». И это очень понятно, что разбогатевшие «прибыльщики и компакейщики» — люди без вкуса и без воспитания — не могли заботиться о «хорошем тоне», которого они и не понимали, а искали только одного — «похвальбы знакомством с знатными особами, без различия внутренних их качеств». Купцы первые начали без стыда и без зазора нанимать захудавших военных и канцелярских генералов «сидеть в гостях» на крестинах и на свадьбах. Вся забота шла только о том, чтобы за столом было кому говорить: «ваше превосходительство». Дворяне над этим снисходительно смеялись и говорили, что этому нечего удивляться, что прибыльщики да приказные, как люди невоспитанные и насчет чести и благородства равнодушные, не могут иметь благородной гордости. И действительно, что бы ни говорили о дворянстве, разность во вкусах оказалась несоизмеримая — дворянские кружки вce-таки всегда были умнее и интереснее. «Тон» воспитанности и образованности, без сомнения, удерживался в «среднем дворянстве», которое Герцен правильно назвал «биющейся жилой России». «Прибыльщики» из дворян и из купцов в самом своем прибыльщичестве держали себя не одинаково: дворянин (по Терпигореву) «ампошировал», а купец (по Лейкину) «пхал за голенище». Напханное за голенища держалось крепче. О простоте они понимали различно: что одним казалось лишней претензионностью, в том другие видели упрощение. Всеволод Крестовский где-то рассказывает, что один купец из евреев, произведенный в действительные статские советники, сказал ему:
—Зачем вы всё беспокоитесь припоминать мое имя: вы называйте меня без церемонии просто: «ваше превосходительство».
Простота людям этого сорта не нравится.
Почтенный ветеран нашей литературы И.А. Гончаров в последних своих очерках о «слугах» правильно замечает, что «простые (то есть необразованные) люди простоты не любят». Для благородной простоты, без сомнения, нужна воспитанность, но воспитанности у нас очень мало. Что в этом положении ни затей — все выйдет не в том вкусе, как хочется и как бы следовало.
Г-н Кокорев желает, чтобы жалованных в чины купцов не называли превосходительствами, а титуловали их высокостепенствами. Притом, как теперь превосходительство очень попримелькалось — высокостепенство, пожалуй, будет свежее и оригинальнее, но все это ведь только новые фантазии на ту же старую тему, и пользы от этого никакой. С высокостепенствами может случиться то же самое, что происходит с превосходительствами, и «сын отца не познает».
Есть опыты еще в ином роде: в Москве около «великого писателя земли русской» и здесь между его почитателями крепнет «содружество простого обычая». Весь неписаный устав этого союза заключается в сохранении благопристойной простоты в жизни —люди эти сами освобождают себя от всего, что им кажется ненужным и излишним. Между прочим, они также не произносят и не пишут никому титляций, а называют людей .прямо их собственными именами.
Велико ли тесто вскиснет на этой закваске — неизвестно, но во всяком случае в идее это проще и глубже, чем фантазия об учреждении «его высокостепенства». На фантазии пойдут вариации, и разведется опять новая докучная басня.
«Ученейший Беда» (Bedae), например, стоит, конечно, выше всех коммерции советников, а между тем его называют только «Беда достопочтенный» (venerabilis). А бывший московский генерал-губернатор Закревский, говорят, будто имел такую фантазию, что, призывая к себе одного из главных тузов московского торгового мира, называл его иногда «почти-полупочтеннейший». Вот какие можно выдумывать вариации! А потому, может быть, несколько правы те, кому кажется, лучше всего говорить просто: «здравствуйте, Лев Николаевич», «прощайте, господин Кокорев».
1888 г.
Помощь сайту: Отправить 100 рублей
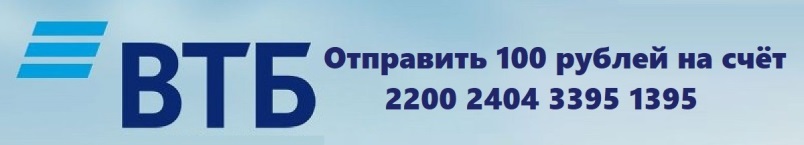
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — ru.wikipedia.org

