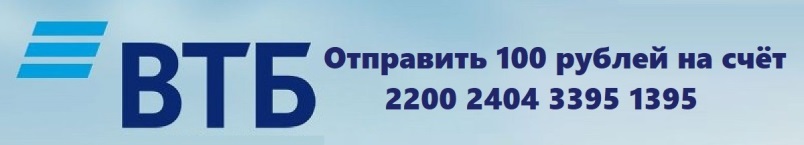«Поэзия есть Бог», – написал Василий Жуковский. У Иосифа Бродского немало ее определений, но следующее: «Испокон века сущее, но лишь изредка достигаемое единство мудрости, мастерства во владении словом и виртуозной гармонии в сочетании звуков» («Литературная газета», № 38, 1997) – по сути, христианская расшифровка откровения Жуковского, исходя из триединства Бога Отца – Премудрости, Бога Сына – Слова и Бога Святого Духа – Гармонии.
В таком случае поэт выступает посредником между Богом-Поэзией и читателями, становится инструментом-орудием явления Его миру.
Лучше сказать, пророком.
Судя по спискам союзов писателей бывшего СССР, счет профессиональным пророкам в той стране шел на тысячи, что невольно порождало сомнения, тоску и ностальгию по золотому для русской литературы девятнадцатому веку.
Истинную суть поэзии, которая есть вышеназванное триединство, затемняла и социалистическая пропаганда («сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня»), сознательно помещая «пророка» впереди его Творца-Поэзии.
То есть «у нас» стихотворение – не стихия, но творение отдельных «овладевших марксизмом-ленинизмом» особей, которому «мы» и даем оценку для последующего общественного потребления. В той же статье из «ЛГ» Бродский писал: «Никакая предпринятая в прозе попытка не способна объяснить поэзию, подобно тому, как невозможно объяснить, что является откровением. Читателю самому предстоит разглядеть в стихах откровение истинного Духа Поэзии – того исключительно своенравного и непостижимого духа, который заманить невозможно, ибо сам он и выбирает всегда, в кого воплотиться».
Тут уж, говоря словами именинника Пушкина, «сердиться глупо и грешно». Хотя, будь я стихотворцем, наверняка задался бы вопросом: «А я? Почему не я?!» – и нашел бы ответ: «Все-таки немножко и я», – прекрасно, однако, сознавая, что пророки не из тех, «какие в каждом трамвае по десять штук едут».
Скажем, в родной мне казахской литературе поэтов море-океан, а несомненный пророк пока лишь Абай Кунанбаев: Стремятся к славе смертные равно, Но лишь избранника венчают славой, Того, чьей мысли золотой дано Блистать стиха серебряной оправой. В предисловии к двухтомнику избранной прозы Марины Цветаевой (Нью-Йорк, 1979) любимый мною Бродский писал: «Поэт же есть комбинация инструмента с человеком в одном лице, с постепенным преобладанием первого над вторым. Ощущение этого преобладания ответственно за тембр, осознание его – за судьбу».
Один певец приготовляет рапорт,
другой – рождает приглушенный ропот,
а третий знает, что он сам – лишь рупор,
и он срывает все цветы родства.
Пушкин, безусловно, осознавал свою судьбу, ясно чувствовал свое пророческое предназначение.
Иногда мучился и страдал:
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
Но всегда возвращался на ниспосланную ему стезю, никогда не пытался обмануть свою высокую судьбу, открыто шел ей навстречу:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Особо торжественно и мощно в «Пророке»:
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Если невозможно, как упоминалось выше, объяснить поэзию в прозе, то Пушкин попытался поэтически отобразить момент откровения:
И просыпается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем. ( ... )
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
«Рисунок, созданный стихом, – писал великий американский поэт Роберт Фрост («ЛГ», № 44, 1995). – Он начинается с восхищения, превращается в импульс и обретает свое направление с первой строчкой, положенной на бумагу; он бежит по цепочке событий и завершается просветлением жизни – необязательно тем самым, огромным, на котором зиждутся культы и секты, – но моментальной вспышкой силы перед лицом смятения и страха...
В стихотворении должно быть более предчувствия, чем предвидения – как в прорицании. Должно быть откровение или цепочка откровений – как для поэта, так и для читателя, и чтобы это получилось, необходима величайшая свобода материала, его движение, чтобы представить отношения без сноски на место и время, на прошлые связи».
А вот каким жестко-современным предстает откровение у Бродского:
И по комнате, точно шаман, кружа, я наматываю, как клубок,
на себя пустоту ее, чтоб душа знала что-то, что знает Бог.
Александр Сергеевич Пушкин – самый пока совершенный инструмент, чрез который Бог-Поэзия с наибольшей в русской литературе полнотой и силой явил себя читателям. Пушкин – «наше все» лишь потому, что все – Бог-Поэзия.
Этот бог не зависит от времени, а также политической, экономической, социальной, культурной и прочей реальности, им и сотворенной. Что до утверждения о «наибольшей в русской литературе» полноте и силе, то доказывать его – ломиться в открытые двери: умнее меня господа и товарищи посвятили этому десятки и сотни убедительных трудов. И все же Пушкин – сначала инструмент, а затем человек:
Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь Божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
И так далее. По большому счету мне все равно, был ли Гомер слепым, Ронсар – глухим, Шекспир – бабником или антибабником, а также где, когда и какой заяц перебежал дорогу Пушкину. По-обывательски это забавно, и только. Поэт же интересен тем, что он записал по вдохновению.
Пушкин: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».
Но как отличить пророка от – мягко сказать – непророка?
Ключ в упомянутом триединстве мудрости, словесного мастерства и звуковой гармонии, вернее, в его наличии или отсутствии в стихах, которое должен различить, почувствовать взыскательный читатель.
Обратимся за примерами к громкозвучным именам в русской поэзии ушедшего столетия, сохраняя в уме высоту пушкинского гения, ибо быть поэтом, означает, всегда быть соизмеряемым со своими предшественниками.
Эффект незаурядного словесного мастерства Владимира Маяковского, новаторства в рифмах и метрах, рождающего своеобразную музыку стиха, напрочь стирается изначально безбожным прокоммунистическим замыслом, содержанием большинства его сочинений, то есть отсутствием первой составляющей божественной природы поэзии – мудрости. «Наступить на горло собственной песне» подталкивает лукавый или конъюнктура, которая, впрочем, тоже от лукавого.
Конечно, хороши яркие его саркастические сатиры, но...скажет смерть, что не поспеть сарказму за силой жизни. Проницая призму, способен он лишь увеличить плазму, ему, увы, не озарить ядра.
Другой любимец народа, в особенности почему-то бывшей маргинально-партийной номенклатуры, Сергей Есенин свои искренние, глубокие переживания и чувства сумел облечь в незатейливый мелодичный, структурный каркас с интересными рифмами (крапива-сиротливо, плетень-деревень и т.д.), которые так и просятся в грустные песни. Но, согласитесь, словарь Есенина – это не словарь Шекспира, и пробелы второй составляющей триединства (конкретно, небогатый словарный багаж), сдерживая свободу, разбег и ассоциативность авторской мысли, оставляют ощущение камерности, неполноты и общей поэтической недостаточности его творчества.
Вторая составляющая, кстати, вообще предостерегает от поспешных оценок того или иного поэта лишь по двум-трем его удачным или неудачным стихотворениям.
Среди бесчисленного множества эпитетов по отношению к Сергею Есенину не довелось встретить «образованный», тем более «энциклопедически образованный». Подбирая инструмент-орудие своего явления, Бог-Поэзия совершенствует его, а если «материал сопротивляется», выбирает другой.
Не тоска ли по потерянному раю слышна в словах французского бунтаря Франсуа Вийона:
Зачем, зачем моей весной
От книг бежал я в кабаки?
Пишу я легкою рукой,
А сердце рвется от тоски...
У Владимира Высоцкого со словесной свободой порядок и замыслы сильны, а музыку своих сочинений он подает в готовом виде. Между тем, если «черным по белому», один на один с текстами, вне аккомпанемента перманентно расстроенной гитары, сразу заметны изъяны в метрах и рифмах, вместо которых у Высоцкого зачастую ассонансы, что ведет к утрате звуковой гармонии – третьей составляющей триединства. К поэтам стихи, безусловно, приходят, но требуют от них впоследствии кропотливого труда (вспомним, Пушкин до двенадцати раз правил свои рукописи), вкуса и слуха, и Владимир Высоцкий имел все шансы стать большим поэтом, да не сподобил Господь.
Что же до громогласной, стадионно-площадно-трибунной советской поэзии образца 60-70-х годов, то по прошествии времени, вновь «черным по белому», в тишине, над текстами старых поэтических книг и подшивок «Юности», в стихах наиболее звонких ее трубадуров находишь явные недостатки то одной, то двух, а то и всех составляющих триединства.
«Служенье Муз», поэзия не терпит шума и треска, не нуждается в спецэффектах и охлократическом экстазе, ей чужды громы и молнии: пускай они гремят и сверкают в сердцах и душах читателей, мирно склонившихся над страницами книг.
Господь явился неистовому Илии не в буре, землетрясении и огне, но «веянии тихого ветра». Когда Иосифу Бродскому рассказали, что выступления поэта Евгения Евтушенко собирают стотысячные стадионы, он заметил: «Это ужасно, я предпочел бы тысячу аудиторий по сто человек в каждой».
Особая статья – верлибр.
Поэзия – удел молодых, «ибо таковых есть Царство Небесное» (Матф. 19, 14), но Творец, думаю, внял страстным мольбам тридцатипятилетнего Уолта Уитмена, подарив ему «уитменовскую строфу», чтобы вместить переполнявший того поэтический материал.
Что стало новой победой поэзии и временным, уверен, отступлением, породившим массу эпигонов, не способных и не желающих рифмовать в строгих стихотворных размерах.
И если первый российский верлибрист Иван Тургенев еще стыдливо записывал свои сочинения «в строчку», то отчаянные последователи оказались менее щепетильными. А на просвещенном Западе лукавый верлибр, с его отрицанием третьей Божественной составляющей – звуковой гармонии, предполагаю, много способствовал отливу читательского интереса от поэзии.
В самом деле, читатель-потребитель ищет в стихах ясно звучную мудрость, а ему предлагают невесть какие «откровения» в сомнительной звуковой упаковке: поневоле задумаешься. Верлибр в русской литературе – воплощенная мечта Валерия Брюсова о возможности превратить в поэта любого гражданина, правда, без предварительной подготовки.
Вот, например, вполне «актуальное», с ходу лично мною сочиненное:
По аллеям парка брожу с мобильным телефоном,
листья падают с ясеня – осень, осень...
Как жаль, что индекс Доу-Джонса отражает лишь интересы
и чаяния финансовых олигархов.
При желании этот бред можно и откомментировать: тема – гражданская грусть, навеянная осенним увяданием природы; герой – скорее всего, юноша с «интересной бледностию» в лице и печальным взором, но в добротных башмаках и костюме, на что косвенно наводит упоминание о мобильном телефоне. А вокруг-то трава и листья, деревья, возможно, поздние бабочки и мошки, кругом-то осенний свет, чисто выметенные дорожки – красиво...
Ничего не имею против верлибра и его авторов, но, чтобы не морочить читателям головы, предлагаю считать его третьим видом художественного письма, то есть поэзия, проза и верлибр. Уверен, так будет честнее.
«Чтение есть соучастие в творчестве», - писала Марина Цветаева, а знаменитая фраза Уолта Уитмена «Великая поэзия возможна только при наличии великих читателей» – это попытка приблизить читателя к себе, сделать равновеликим, это своеобразный аванс-призыв, при котором сакраментальный вопрос «До поэзии ли сейчас?» приобретает зловещий смысл, если вспомнить слова Василия Жуковского о сути поэзии.
«Человек есть то, что он читает, – утверждал Иосиф Бродский. – Не читая стихов, общество опускается до такого уровня речи, при котором становится легкой добычей демагога или тирана».
Разумеется, поэзия требует от читателя знаний и подготовки, но искренняя вера в Божественное ее начало, смею утверждать, освятит и путь познания.
С Жуковского мы начали, обращением к нему нынешнего казахстанского именинника Пушкина и завершим:
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным.
-------------------

https://click-or-die.ru/2021/07/brodsky/
Иосиф Бродский – король графоманов и самый надоевший поэт. Виноват не только он, но и современные фанаты
Помощь сайту: Отправить 100 рублей
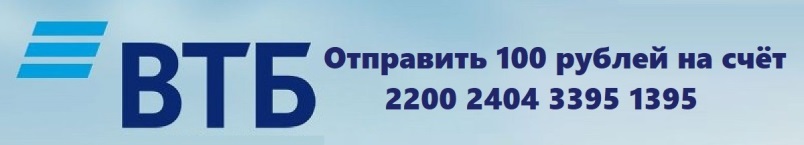
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — newsland.com