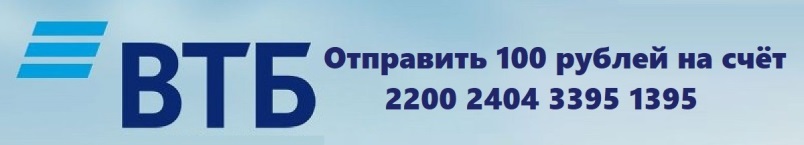В 1922 году художник Константин Коровин эмигрировал. В своих мемуарах он пытался анализировать причины катастрофы 1917 года, описал ряд эпизодов революционных событий очень емко, точно и красочно.
Как и миллионы русских людей, он отчаянно пытался понять, как стремительно развивающаяся Россия, сравнительно успешная и богатая страна, в одночасье превратилась в мирового изгоя с разрушенной экономикой и нищим населением, в царство террора и голода...
Начало цитаты:
"Государь отрекся. В управление страной вступило Временное Правительство. Назначались выборы в Учредительное собрание. Вся Россия волновалась. Везде были митинги, говорили без конца. Шаляпин пришел ко мне взволнованный:
-Ерунда какая-то идет. Никто же ничего не делает. Теляковского уже нет. Почему, в сущности, он уволен? Управляющий - Собинов! Меня удивляет, зачем он пошел? Он артист. Управление театрами! Это не наше дело. Хора поет половина. В чем дело, вообще? Я не понимаю. Революция. Это улучшение, а выходит ухудшение. Молока нельзя достать. Почему я должен петь матросам, конным матросам? Разве где-нибудь есть конные матросы? Вообще, знаешь ли, обалдение.
-Ты же раньше жаловался, Федя, что "в этой стране жить нельзя", а теперь недоволен.
-То есть, позволь, но ведь это не то, что нужно.
-Вот-вот, каждый теперь говорит, что все не так, как бы он хотел. Как же всех удовлетворить?
Вспыхнуло октябрьское восстание. Шаляпин был в Москве и приходил ко мне ночевать. Был растерян, говорил:
-Это грабеж, у меня все вино украли.
-Равенство, понимаешь ли! Я должен получать, как решил какой-то Всерабис, 50 рублей в день. Как же? Папиросы стоят две пачки 50 рублей. Никто не может получать больше другого. Да что, они с ума сошли, что ли, сукины дети. Этот Васька Белов пришел ко мне поздравлять с революцией.
Я говорю:
-Что ты делаешь?
-Заборы, - говорит, - разбираю.
-Зачем?
-Топить.
-Сколько ты получаешь?
-Как придется, - говорит. - Я то разбираю, то продаю. Вот, прошлый месяц 85 тысяч взял.
-Я к Луначарскому - а он мне: "Я постараюсь вам прибавить, вы только пойте на заводах, тогда будете получать паек". Да что они, одурели, что ли?
-А что же Горький-то, Алексей Максимыч? Ты бы с ним поговорил.
-Я и хочу ехать в Петербург. Там лучше. У Алексей Максимыча, говорят, в комнатах поросята бегают, гуси, куры. Здесь же жрать нечего. Собачину едят, да и то достать негде. Я вообще уеду за границу.
-Как же ты уедешь? А если не пустят? Да и поезда не ходят.
-То есть - как не пустят? Я просто вот так пойду, пешком.
-Трудновато пешком-то... да и убьют.
-Ну, пускай убивают, ведь так же жить нельзя?.. Это откуда у тебя баранки?
На столе у меня лежали сухие баранки.
-Вчера с юга приехал Ангарский. Я делал ему иллюстрации к русским поэтам, так вот дал мне кусок сала и баранки.
Шаляпин взял со стола баранку, отрезал сала и стал есть.
-А знаешь, сало хорошее, малороссийское.
В это время пришел доктор Иван Иваныч. На шинели доктора были нашиты для застежек большие крючки. На застежках привешены были грязные мешки. В одном - картошка, в другом - мука, морковь. А мясо - ребра конины - висело тоже на крючке - грязное, завернутое в рваную тряпку.
- Откуда ты? - спросил Шаляпин.
- Да вот, в Лихоборах был, под Москвой. Достал кое-что, а то есть нечего. В кармане масло растаяло.
Иван Иваныч стал бережно вынимать пальцами из кармана кусочки масла и раскладывать на бумаге.
-Все потихоньку покупаешь, торопишься. Боятся продавать, запрещено, убьют. В овраге, в кустах дали, на виду нельзя.
-Это что же такое? - сказал Шаляпин, смотря вопросительно на меня и Ивана Иваныча.
-Что же, Федор Иваныч, ведь вы же радовались.
-Да ведь радовался! Это же все не то. А сколько же ты заплатил за это?
-Что заплатил? Пальто женино отдал, да платье шерстяное. Что заплатил? Мужики уже не берут денег. За полпуда муки, да две щепотки соли - золотой браслет женин отдал третьего дня.
На другой день Шаляпин уехал в Петербург. Вскоре я получил от него письмо. Он звал меня в Петербург и прислал мандат на проезд, подписанный Зиновьевым. Но в Петербург я не поехал, а спасаясь от голода, прожил зиму в Тверской губернии, где был хлеб.
Как странно, что бы это значило? Неужели будет так постоянно, что благая энергия труда для культуры, что рабочие будут строить, а потом разрушать? А так ведь есть на самом деле. И вот что сейчас происходит. И это только у людей.
Во время русской смуты я слышал от солдат и вооруженных рабочих одну и ту же фразу: «Бей, все ломай. Потом еще лучше построим!»
Странно тоже, что в бунте бунтующие были враждебны ко всему, а особенно к хозяину, купцу, барину, и в то же время сами тут же торговали и хотели походить на хозяина, купца и одеться барином.
Весь русский бунт был против власти, людей распоряжающихся, начальствующих, но бунтующие люди были полны любоначалия; такого начальствующего тона, такой надменности я никогда не слыхал и не видал в другое время. Это было какое-то сладострастие начальствовать и только начальствовать.
Федор Иванович все время пребывал в полном недоумении. Часто ездил в Кремль, к Каменеву, Луначарскому, Демьяну Бедному. И, приходя ко мне, всегда начинал речь словами:
- В чем же дело? Я же им говорю: я имею право любить мой дом. В нем же моя семья. А мне говорят: теперь нет собственности, дом ваш принадлежит государству. Да и вы сами тоже. В чем же дело? Значит, я сам себе не принадлежу. Представь, я теперь, когда ем, думаю, что кормлю какого-то постороннего человека. Это что же такое? Что же, они с ума сошли, что ли?
Горького спрашиваю, а тот мне говорит: "Погоди, погоди, народ тебе все вернет". Какой народ? Крестьяне, полотеры, дворники, извозчики? Какой народ? Кто? Непонятно. Но ведь и я народ.
- Едва ли, - сказал я, - ты помнишь, Горький как-то говорил у меня вечером: кто носит крахмальные воротники и галстухи -не люди. И ты соглашался.
- Ну, это так, несерьезно...
Он помолчал и заговорил вновь:
- Пришли ко мне какие-то неизвестные люди и заняли половину дома. Пол сломали, чтобы топить печку. В чем же дело?.. Если мне не нужны эти портки, - показал он на свои панталоны,-- то что же будут делать портные? Если я буду жить в пещере и буду прикрывать себя травой, то что будут делать рабочие?
Трезвинский говорит в Всерабисе: "Дайте-ка мне две тысячи рублей в вечер, как получает Шаляпин, я буду петь лучше его". Вино у меня из подвала украли, выпили и в трактир соседний продали... Луначарский говорит, что весь город будет покрыт садами. Лекции по воспитанию детей и их гигиены будут читать... А в городе бутылки молока достать нельзя...
Вообще каждый день говорит речи, все обещает, а ему кто-то крикнул: "Товарищ Луначарский, вы хоша бы трамвай пустили..." Поедем, послушай, на Дмитровку, Маяковский мне сказал, там А. какая-то, у нее на квартире ресторан. Там все есть. У ней чекисты едят.
Действительно, столы в зале у А. были накрыты белыми скатертями; великолепный фарфор, изысканный завтрак; коньяк и вина. За столами сидели люди в галифе и тужурках, ранее никогда не виданные. Хозяйка, красивая женщина, села с нами и сама стала потчевать Шаляпина.
Выходя, Шаляпин сказал:
- Как это странно. Рестораны закрыты, а ей разрешается.
Странно то, что среди русских людей есть особенности отрадных вожделений души, радости и как бы самой большой и торжественной победы; как бы какие-то заключения важного дела, как бы служение чему-то нужному и высокому. Это есть желание сделать какую-либо особенную пакость счастью, успеху, удаче своему собрату, русскому же. Эта таинственная черта души русского мне, тоже русскому, совершенно не была понятна. И эту черту можно проследить в отношении друг к другу среди писателей и нашей критики.
Что бы кто ни говорил, а говорили очень много, нельзя было сказать никому, что то, что он говорит, неверно. Сказать этого было нельзя. Надо было говорить: «Да, верно». Говорить «нет» было нельзя — смерть. И эти люди через каждое слово говорили: «Свобода». Как странно.
Ученики Школы живописи постоянно митинговали, с утра до глубокой ночи. Они реформировали Школу. Реформа заключалась в выборе старост и устройстве столовой (которая была ранее, но называлась буфет). Странно было видеть, когда подавали в столовой какую-то соленую воду с плавающими в ней маленькими кусочками гнилой воблы. Но при этом точно соблюдался черед, кому служить, и старосты были важны, распоряжались ловко и с достоинством, как важные метрдотели.
При обыске у моего знакомого нашли бутылку водки. Ее схватили и кричали на него: «За это, товарищ, к стенке поставим». И тут же стали ее распивать. Но оказалась в бутылке вода. Какая разразилась брань… Власти так озлились, что арестовали знакомого и увезли. Он что-то долго просидел.
Учительницы сельской школы под Москвой, в Листвянах, взяли себе мебель и постели из дачи, принадлежавшей профессору Московского университета. Когда тот заспорил и получил мандат на возвращение мебели, то учительницы визжали от злости. Кричали: «Мы ведь народные учительницы. На кой нам черт эти профессора. Они буржуи».
Я спросил одного умного комиссара: «А кто такой буржуй, по-вашему?» Он ответил: «Кто чисто одет».
На рынке в углу Сухаревой площади лежала огромная куча книг, и их продавал какой-то солдат. Стоял парень и смотрел на кучу книг.
— Купи вот Пушкина.
— А чего это?
— Сочинитель первый сорт.
— А чего, а косить он умел?
— Не-ет… чего косить… Сочинитель.
— Так на кой он мне ляд.
— А вот тебе Толстой. Этот, брат, пахал, косил… чего хочешь.
Парень купил три книги и, отойдя, вырвал лист для раскурки.
Картина художника Ивана Владимирова "Крестьяне возвращаются после разгрома помещичьей усадьбы в окрестностях Пскова"
Были дома с балконами. Ужасно не нравилось проходящим, если кто-нибудь выходил на балкон. Поглядывали, останавливались и ругались. Не нравилось. Но мне один знакомый сказал:
— Да, балконы не нравятся. Это ничего — выйти, еще не так сердятся. А вот что совершенно невозможно: выйти на балкон, взять стакан чаю, сесть и начать пить. Этого никто выдержать не может. Летят камни, убьют...
Больше всего любили делать обыски. Хорошее дело, и украсть можно кое-что при обыске. Вид был у всех важный, деловой, серьезный. Но если находили съестное, то тотчас же ели и уже добрее говорили:
— Нельзя же, товарищ, сверх нормы продукт держать. Понимать надо. Жрать любите боле других.
— В Дубровицах-то барыню, старуху восьмидесяти лет, зарезали. За махонькие серебряные часики. Генеральша она была.
— Что ж, поймали преступника? — спросил я.
— Нет, чего, ведь она енеральша была. За ее ответа-то ведь нет.
Один мой родственник, кончивший университет, юридический факультет, горел деятельностью. Он целый день распоряжался, сердился, кричал, был важен и строг. Он знал все, говорил без устали. «Я начальник домового комитета», — кричал он. И тут же он себе завел артистку, называя ее Лидия Павловна. Относился к ней почтительно, часто говоря: «Лидия Павловна этого желают». Потом украл у меня деньги и, кстати, чемодан с платьем. Управляя домовым комитетом, неустанно распоряжался, так что живущий там доктор Певзнер от него слег в постель и прочие жильцы плакали и, наконец, выгнали его с большим трудом. Теперь он коммунист.
После митинга в Большом театре, где была масса артистов и всякого народа, причастных к театру, уборная при ложах так называемых министерских и ложи директора, в которых стены были покрыты красным штофом, по окончании митинга были все загажены пятнами испражнений, замазаны пальцами.
Власть на местах. Один латыш, бывший садовник-агроном, был комиссар в Переяславле. По фамилии Штюрме. Говорил мне: «На днях я на одной мельнице нашел сорок тысяч денег у мельника». — «Где нашли?» — спросил я.
— «В сундуке у него. Подумайте, какой жулик. Эксплуататор. Я у него деньги, конечно, реквизировал и купил себе мотоциклетку. Деньги народные ведь». — «Что же вы их не отдали тем, кого он эксплуатировал?»
— сказал я. Он удивился — «Где же их найдешь. И кому отдашь. Это нельзя… запрещено… Это будет развращение народных масс. За это мы расстреливаем».
— Вы буржуазейного класса? — спросил меня комендант Ильин.
— Буржуазейного, — отвечаю я.
— Значит, элемент.
— Элемент, значит, — отвечаю я.
— Не трудовой, значит.
— Не трудовой, — отвечаю.
— Значит, вам жить тут нельзя в фатере, значит. Вы ведь не рабочий.
— Нет, — говорю я ему, — я рабочий. Портреты пишу, списываю, какой, что и как.
Комендант Ильин прищурился, и лицо превратилось в улыбку.
— А меня можешь списать?
— Могу, — говорю.
— Спиши, товарищ Коровин, меня для семейства мово.
— Хорошо, — говорю, — товарищ Ильин, только так, как есть, и выйдешь — выпивши. (А он всегда с утра был пьян.)
— А нельзя ли тверезым?
— Невозможно, — говорю, — не выйдет.
— Ну ладно. Погоди, я приду тверезый, тогда спиши.
— Хорошо, — говорю, — Ильин. Спишу, приходи.
Больше он не просил себя списать.
Вечером зашли ко мне крестьяне-приятели, охотники, и заявили:
- Мы знаем, что это господа все делают, нас за озорство учат, так им царь велел...
- Царя нет, - сказал я им. - Он убит.
- Да, что ты, Лисеич, чего нам ты говоришь? Вот, право, грех. Нет - знаем: жив, и в Аглии. Солдат надысь приходил -он в Аглии был с пленными. Так вошел к ним царь и сказал: "Поезжайте домой, и я, как народ поучат там, то посля приеду", - и по рублю серебряному дал. Солдат нам и рупь показывал...
Странно было слушать это от еще нестарых и грамотных крестьян, не раз бывавших в Москве...
- Вот бабушка революция все нам обещала отдать, - говорил один. - И товар, и лес, чтобы мы сами торговали, а не купцы. А вот ее боле нет и нам ничего нет. Господа все - кто, что. Кто тулуп надел, кто поддевку и все себе берут, а мужику опять ничего. А говорили - "подымайся, все получите, как господа в спинджаках ходить будете, сапоги, галоши, дарма", и учителка тоже говорила - "чай, сахар дарма". Вот! А теперь ничего нету...
Странно было слушать это, и как я ни старался объяснить, они не понимали. '
У них сидело там, внутри глубоко - галоши, спинжаки, чай и сахар дарма и жажда новой жизни: чтобы ничего не делать и быть, как господа. А когда я доказывал, что и доктор, и инженер, и начальник станции тоже работают, то один из них, опустивши голову, только рассмеялся:
-Ну, и работа! Вот пускай-ка пойдет покосить, узнает работу.
-Он не крестьянин, - говорил я. - Доктор лечит, а другой инженер машину делает, вы на ней ездите.
-Нет, пускай-ка он сначала попашет, да посеит, а там делай, что хочешь. А то его корми. Пускай свое ест. Едоков-то много, а крестьянин всех корми...
- Верно, - соглашались другие.
- Мы-то ничего тебе, - говорили мне. - Тебе что, ты здесь приютился и живи. Мы тебя-то дарма прокормим. Только одно: ты все знаешь, а сказать не хочешь. Когда царь-то вернется? А то мы здесь без начальства друг друга косами запорем, вся начисто без народа Россия будет, только в лесу нешто кто спрячется, да волком завует..."
Конец цитаты.
Источники:
Коровин К.А. "Воспоминания" https://www.litmir.me/br/?b=244401&p=1
Коровин К.А. "Шаляпин. Встречи и совместная жизнь." http://az.lib.ru/k/korowin_k_a/text_1939_shalyapin.shtml
Помощь сайту: Отправить 100 рублей
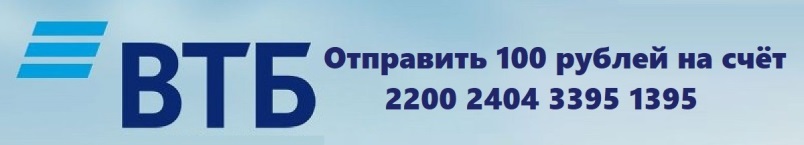
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — historical-fact