
Рассказ основан на реальных событиях,
происходящих в Нижегородском крае
в конце двадцатых, начале тридцатых годов, XX века.
По лесной узкой дороге уже прихваченной ноябрьским первым морозцем медленно шла лошаденка, везя за собой телегу. Телега подскакивала на замёрзших кочках, скрипела, и звук этот раздавался далеко в оголённом лесу, наводя тоску и уныние. На телеге одиноко восседал хозяин лошадёнки, плотного телосложения, с окладистой бородой, средних лет. Он выглядел старше своего возраста, но в душе его до недавнего времени было всё по молодецки, всё с азартом, за что бы он ни брался, чтобы не делал, всё было в радость, в жизнь.
«Слава Богу, троих ребятишек с Прасковью народили. Родители её дом помогли поставить, большой, крепкий, на каменном фундаменте. Шутка ли, такой дом возвести. Опять же — хозяйство, земля-кормилица, скотины полон двор, две лошади, овин большой, маслобойка. Как же теперь это всё? Ведь своим же горбом добро наживал, тесть рано ушёл из жизни, трагически, в своём же дому сгорел: «говорили, поджог мол был» Мать Прасковьи от родов умерла, когда Прасковье двенадцать лет было.. Тятьку в «Японскую» ещё убили…. вот всё почти сам, своими вот этими руками. (И опустив вожжи, он посмотрел внимательно на свои большие ладони, так, как будто видел их впервые). Ну, было дело, держал работника, да нанимал в страду по несколько человек, так ведь платил исправно, не обижал. А остальное…. всё сам, всё сам. Что же теперь то? как же?» — думал Данила, с грустью в глазах.
— Эх Данила, Данила- пропадёшь ты не за грош- крикнул мужичок, и лошадь от этого крика взбрыкнула, и зашагала быстрее.
— Проснулась старая, прошлым годом, хотел я тебя цыганам продать, так нет же, не проведёшь их. Молоденькую им подавай, хоть не объезженную, всё глаз метили на дочку твою Зорьку, и я всё переживал, кабы не увели, порода эта такая, одним словом — Цыгане.
— Ладно Веселуха, не обижайся, всему свой срок, своё время. Только время теперь пришло непонятное. Может, придётся тебе век свой дома доживать, а вот Зорьку, могут и увести со двора, белым днём увести, нет, не цыгане, что цыгане?, тут пострашнее цыган нагрянуть могут. Насмотрелся я «на Горах то», что творится, Господи помилуй — всё говорил Данила со своей старой лошадью, крестясь, и тяжело вздыхая.
Дорога делала крутой поворот, за ним показались купола красивой каменной сельской церкви. Купола были покрашены ярко-голубой краской, как летний небосвод, и даже в такую позднюю осеннюю пору выглядели как то по-праздничному величаво и красиво.
«Надо бы в церковь то зайти»- подумал Данила, и остановил Веселуху, посреди одиноко стоящих деревьев у церкви, намотав вожжи на толстый берёзовый сук.
Но помыслы его оказались напрасными. Церковь оказалась запертой, на большой амбарный замок.
«Странно, однако, воскресенье же сегодня, и народу не видать»- подумал Данила, и направился к тихо бредущей по тропинке, старушке.
— Мать, слышишь мать — обратился Данила к пожилой женщине — Что же службы то нет, ведь воскресенье сегодня, да слышишь ли ты меня, уж не глухая ли вовсе?
Старуха испуганно оглянулась, перекрестилась на церковь, своей маленькой морщинистой рукой, поправила старую выцветшую шаль, и тихо, как то боязливо вымолвила:
— А ты что же, мил человек, не знаешь, что ли, видать не тутошних мест будешь. Батюшку то увезли, ещё третьего дня, как увезли. В уезд сказывали, повезли , а зачем?, не ведаю, времена та нынче всё смутные, сатана на престол взошёл, безбожник.
После этих слов, она ещё долго озиралась по сторонам, крестилась, что- то шепча, потом быстро засеменила своими старушечьими ногами, удаляясь по безлюдной улице, наверное, к своей старой избёнке. А Данила смотрел на уходящую, немного сгорбленную фигуру, и в душе было не спокойно, всё не так как прежде. Как бывало, и не раз, проезжая на телеге, на санях ли, мимо этой церкви, был довольный, что продал на Волге всё привезённое для продажи. Всё, что смастерил своими руками, и не только. Изделия разные из мочала, деревянные санки, кадушки, мёд душистый, маслице своё, всё продавалось, обменивалось, на подарки детям, жене, да и всей родне, на вещи всякие в хозяйстве нужные. А вот в этот раз, даже часы с боем красивые, чуть не в его рост, из ценных пород дерева прикупил. Всё в дом, всё для удобства, уюта. Проезжал он, бывало и в воскресенье, попадал и в праздники разные, и слышал колокольный звон за несколько вёрст. И звон этот колокольный всё нарастал и нарастал, и в душе была какая- то благодать, было спокойствие. Только в этот раз как ком снежный, накатывалась какая — то тревога, и озабоченность. «Село то большое, и уж в воскресенье, да особенно в такую пору, было всегда здесь многолюдно, а тут…. Как будто повымерли все»- думалось с тревогой Даниле.
— Ну, милая «поскрипели» что ли ближе к дому, скоро уж свечеряет, засветло не доберёмся видать, но и ночевать у людей, не больно охота. Так что до дома вези Веселуха, да не косись, не косись, ишь ты, с гонором, знаю я тебя как облупленную — всё подтрунивал свое лошадёнке её хозяин, а она от слова «дом» зашагала охотнее, как будто и не устала совсем, от дальней, ухабистой дороги.
По небу поплыли густые тёмно-серые облака, заметно стало холоднее, подул северный ветер, и Данила, поёжившись подумал: «Неужто первый снег сейчас повалит, вот и дождались зимы — матушки, дождались. Но не страшна зима то. Дрова запасены, зерна полный амбар. Слава Богу, погода не подвела. Сена вдоволь; хоть коровам, хоть лошадям. Дети сыты, одеты, обуты, живи бы да радуйся, только вот……»
Уже совсем стемнело, когда Данила подъехал ко двору. Веселуха, почуяв Зорьку негромко заржала, Зорька отвечала из-за ворот тем же. Снег, первый, пушистый, всё же побелил землю, и от него белого, хрустящего под ногами, стало светлее на пустынной деревенской улице. Во многих домах мерцали керосиновые лампы, оконца светились каким — то тёплым, родным светом. Осознание этой теплоты приходило постепенно, с годами. Данила распряг Веселуху, завёл в стойло, дал душистого полевого сена. Оделил и Зорьку, которая тянулась головой, быстро уловив большими своими ноздрями, приятный запах сена. Потом он вышел на улицу, за большие тесовые ворота, и пристально вглядываясь в вечернюю тёмную даль, некоторое время стоял неподвижно.
«Вот она Родина»- подумал Данила и глубоко вздохнул свежего, бодрящего, морозного, воздуха — «Здесь вся наша жизнь, здесь предки мои похоронены. Хоть и за шесть вёрст лежат, да на «Троицу» в «гости» к ним ходим. Неужели закончится род то наш, вся надежда: сынок Николка, дочки замуж выйдут, а сыновьям «Фамилию» беречь, так издавна заведено»
Мысли его душевные прервала Прасковья, вышедшая на переднее крыльцо.
— А я слышу, лошади ржут, видать Данилушка прибыл, в добром здравии ли? Всё ли ладно?
— Ну здравствуй Прасковья, здравствуй родная — взволнованно поздоровался муж, и так крепко обнял жену, как никогда раньше так не обнимал, долго не выпуская из объятий.
— Да всё ли в порядке то Данила, чую я, случилось что? Не томи, говори же скорей — и Прасковья, красивая, статная, с длинной по-девичьи белокурой косой, при свете лампы, пристально заглянула мужу в глаза.
Зашли тихо в дом, и уже там, продолжили, как казалось Даниле непростой, тяжёлый разговор.
— Да у меня то всё ладно Прасковьюшка, а вот чего в Губернии то творится, насмотрелся я на Волге то, боялся всё , что и меня трясти начнут, скоро и до нас докатится, вся волна эта, не обойдёт стороной.
— Да что за волна то, говори, уж не война ли опять случилась?
— Войны нет Прасковья слава Богу- и Данила перекрестился на образа.
— А вот борьба с разными враждебными элементами, на вроде нас с тобой, развернулась полным ходом. Отбирают всё в «Комунны», а людей из домов выгоняют, добро всё бедноте раздают. Коллективные хозяйства собирают, а не согласных, силой записывают, вот такие дела, нынче Прасковья.
Прасковья медленно опустилась на лавку, тихонько причитая, чтобы не разбудить детей.
— Да как же так то? Ведь всех богатых уж разогнали. Соседа нашего Горбунова, Казакова, Баженова Ивана Степаныча, где они, нету их, стало быть и богатых нет, всё у них отобрали, верно говоришь, теперь то у кого?
— Да хоть у нас с тобой, охотников найдётся на наше добро, чай не бедствуем, не попрошайничаем. Да вон хоть, Васька Гаранин, давно косится, глазом своим вороным, всё клюнуть норовит, а тут, как говорится: «и карты в руки» Теперь при сельсовете, первый активист. Только им сейчас вся власть. Боюсь, вот такие как Васька и начнут бесноваться, не остановишь.
— Да разве ж правды нет на земле, власть то куда смотрит, раз такое дело, справедливо ли, людей на улицу выгонять- всё сокрушалась Прасковья, и слёзы потекли по её щекам. Ужин стыл на столе, нетронутый. Так они долго сидели, всё размышляя, надеясь, что обойдёт беда их стороной, что будут они жить как прежде, растить детей, и думать о будущем.
— Вот и я думал Прасковья, что миновала беда то, сделала новая власть своё дело, а теперь, вишь, по новому, коллективные хозяйства по всей стране, «колхозы» проще говоря, массово организовывает Советская власть. Такое время пришло. А где теперь Горбунов то, знать бы? Да может и знать не нужно, так- то вот.
Редкое ноябрьское солнышко осветило комнату, а Данила был уже во дворе, чинил сани, как услышал женские вопли и рыдания.
— Никак Тётка Ульяна голосит — вслух произнёс Данила, и выглянул за ворота.
Напротив, у дома Авдеевых, стояли санные подводы. Из дома, что- то выносили, выбрасывая прямо на снег. Старый хозяин, Матвей Игнатьич, стоял на морозце, без шапки, и седые пряди его, свисали на лоб. Вид Игнатьича был жалок и растерян. Тётка Ульяна, жена его, тоже не молодая уже женщина, плакала навзрыд, всё уговаривая «уполномоченных», просила их о чём то, чуть ли не падая в ноги.
— Уйди « старая», без тебя тошно, велено, значит велено, думать раньше надо было, когда добра столько наживали, деток вон в городе пристроили, а наши чем хуже?
-Да как же родимый, велико ли добро то, а дети то чем же виноваты, вот приедут, зададут Вам супостатам.
— За оскорбление ответ держать придётся, а деток твоих, мы быстро на место поставим, а то и к стенке. И парень потряс наганом, перед лицом пожилой женщины.
— Креста на вас нет, изверги Вы какие, людей пожилых на улицу выгонять, или уж ничего Вам не свято. Вспомнит Бог то прегрешения Ваши, и не Вам, так детям вашим отольются слёзы людские.
— Что старуха воешь, ну вой, вой. А ты что старый хрычь насупился? Или не по нутру тебе вся эта картина, а? подтрунил, подошедший Васька Гаранин, и подтолкнул, вроде как шутя Игнатьича так, что тот чуть не упал.
— Что Васька радуешься, чужой беде радуешься, совсем ополоумели, дорвались до власти то — в сердцах, еле сдерживая слёзы, прокричал Игнатьич.
— Но, ты говори да не заговаривайся, похлебаешь ещё, с лихвой похлебаешь, а дом то твой мне передают, ведомо ли тебе? старому обалдую, да и семья то у меня, мал — мала меньше. Тесновато стало. А ты, тут вдвоём со старухой, в таких хоромах проживаешь, не справедливо это.
— А нас куда теперича прикажите, господа хорошие.
— Где ты тут господ увидал, морда твоя « кулацкая» — и «уполномоченный» замахнулся было на деда, но кто-то его остановил, крепкой мужской рукой.
— Поживёте пока в лавке своей каменной, забыли , как торговали, всё втридорога, как буржуи, а ты Григорий Степаныч, что же, защищать их вздумал, ну, ну, валяй, только кабы потом не аукнулось – И Васька разразился таким неприятным ехидным смехом, что Григорию стало не по себе.
— Шёл бы ты пока отсюда Василий, время придёт, заселишься, не мешай пока — спокойно сказал Григорий, и сжал здоровенные кулаки, при виде которых Васька Гаранин сразу умолк, и удалился восвояси. Григорию было жаль стариков. Он дружил с их сыном Санькой, хорошим, добродушным пареньком, но сделать ничего не смог. Время диктовало свои условия, и приходилось, как то жить, принимая покорно всё, что происходило. Только вот там внутри, глубоко в душе, кипела злость на несправедливость. На то, что вот таким, как Васька, да этим «уполномоченным», досталась вся власть, и используют они эту власть направо и налево, куда, и как захотят, и контроля над ними нет почти никакого.
По директиве, пришедшей «с верха» можно было раскулачивать не более пяти процентов от крепких хозяйств. А местами доходил этот самый процент до двадцати пяти. Кто- то, дорвавшись до власти, сводил старые счёты. Кто- то, завидовал на добро. А кто- то, просто так, рушил человеческие судьбы, для «галочки». Так и жила Россия в ту пору. Тяжело жила, дико. И всё это колхозное движение только в газетах, да кино было безоблачным и счастливым.
— Данила забежал в дом, тяжело дыша, расстегнув лёгкий полушубок, ухватился рукой за сердце.
— Что опять, поспокойнее тебе надо быть Данилушка, не бережёшь ты себя совсем — говорила и ласково гладила густые тёмные волосы мужа, жена Прасковья.
— Ты не слыхала что ли, не видела, что у дядьки Матвея твориться то, завтра и к нам жди гостей незваных.
— Видела, как не видать, и слышала, на весь край Тётку Ульяну слышно, да только чем мы им помочь то можем, чем?
— Так, сейчас эти …. все разъедутся, дом запрут, а старикам куда? на улице? или как Васька, паразит, с издёвкой сказал: «в лавку холодную», там даже печки сейчас нет, пойду тихонько позову к себе, не замерзать же старикам на холоде, не по-христиански это.
— Что ты, что ты, что нам за это будет Данила, ты про деток то своих подумай, что с ними- то будет?
Ты думаешь Прасковья, если они уж стариков не жалеют, детей жалко будет, сомневаюсь я. А помочь старикам надо. Сколько раз Матвей Игнатьич выручал меня, пойду я Прасковья, разлетелись видать, коршуны то.
Старики тихо вошли в Данилин дом, сняв у порога обувку, подойдя к образам по очереди перекрестились, и уселись скромно у печи, на массивную дубовую лавку.
— Просим милости к столу — стараясь быть как можно ласковей, пригласила Прасковья стариков к ужину, хотя у самой в душе было тревожно и не спокойно. Старики поначалу отнекивались, но потом после уговоров, всё-таки сели ужинать, вместе с детьми и хозяевами.
Ужинали, как и положено было, без разговоров, молча, степенно, потом пили чай на травах. Прасковья водрузила на широкий стол ведёрный медный самовар, от которого шёл приятный глазу, горячий парок. Отпив чаю, мужчины ушли в другую комнату, детей уложили спать. А Прасковья с тёткой Ульяной, остались о чём-то тихо беседовать за столом.
— А сын то, Саня, разве не поможет в таком деле, не разберётся, а Игнатьич, неужто не сможет, он ведь в начальниках там в городе то ходит, сам ведь говорил. Мне то он ничего не сообщает, стесняется наверное — как же, сын ведь?
— Ох, Данила, Данила, не знаешь ты всех дел то. Отстранили его от должности то, донос, какой — то ухарь написал. Он ему правду-матку выдал. Ну а тот недолго думая, и написал, куда следует. Может только разберутся, сынок то ведь, честно трудился, грамоты почётные имеет. Может, будет правда то, а Данила?- И старик посмотрел Даниле в глаза, так жалобно, с какой — то надеждой, что у Данилы, чуть не пробило слезу. Данила молчал. Он не знал, что сказать старику, чем утешить. «Может завтра общая беда будет тяготить их, и уже им обоим нужна будет помощь от произвола, местных, рьяных активистов, подливающих масла в огонь, ни жалеющих ни стариков, ни детей. И куда им потом, куда от своих мест, разве не дико, но хоть бы забрали чего из имущества, но из дома то выгонять, в зиму, как это? мыслимо ли? Что ж они, не русские люди что ли? будто басурмане какие, вот ведь времена то настали»- мысли бешено носились в Данилиной голове, сердце щемило, и надо бы было ложиться спать, но ко сну нисколько не тянуло.
На следующее утро старики всё же, после уговоров Данилы, написали в город сыну письмо. Всё переживали: «У самого — то забот, выше крыши, а тут ещё и их горе — попробуй, разберись сразу, как поступить?» Всё к одному набегало. У Данилы мать заболела, Елизавета Степановна. От событий недавних, да переживаний за детей, обострилась старая болезнь. Всё жили, степенно, правда, позажиточней других, да разве за такое из родного дома выгонять людей на мороз надо, видано ли это где-нибудь? Но не утром, не на следующий день, незваные гости к Даниле с Прасковью не пожаловали. Зато в утешение было, когда приехал из города друг детства, и уже не Санька, а Александр Матвеевич, солидный человек, высокий стройный, в длинном, сером пальто, и при галстуке. Встреча была нелёгкой. Висел каким-то грузом весь этот кошмар, в который не хотелось верить никому, а хотелось думать, что это всего лишь сон, тяжёлый сон, который пройдёт, забудется скоро. Но это был не сон, это была явь, какая- то чуждая, как казалось всем им, явь.
— Сынок, родной ты наш — запричитала , едва сын переступил порог, Тётка Ульяна.
— Ну будет, будет мать, подожди, дай хотя бы поздороваться по человечески — едва сдерживая слёзы, вымолвил сын. Он обнял её крепко, а она его не выпускала всё из своих объятий, как будто, могла больше не увидеть. И так они стояли долго, пока отец, Матвей Игнатьич, не оговорил жену.
— Ну хватит баба, распустила слёзы то, слёзы нынче дороги, их беречь надо, а то на всё не хватит.
— Да ну тебя «старый», всё с шутками, до шуток ли теперь то?
— Шути не шути, а вон как оборачивается то — многозначительно произнёс Матвей Игнатьич.
Саня, наконец — то, после долгих охов и вздохов, поздоровался, и так же крепко обнялся с Данилой, поздоровался ласково и с Прасковьей, после чего все сели за стол обедать.
— Как добрался то — спросил Данила у друга, когда уже пили чай, и в комнате слышен был ритмичный звук маятника в больших часах, стоящих в углу.
-От Воскресенского на подводах, мужики возили туда зерно молоть, неужели поблизости нет ни одной мельницы теперь?
-Как не быть, есть на «Люнде», отвечал уже Матвей Игнатьич- да только с нашими порядками теперешними: «Бешеной собаке — семь вёрст – не помеха», коль все мельницы в запустении. У старых хозяев отняли, а «новые», не объявились. Говорят: «Колхозы всё будут делать, пуще прежнего, и больше, так ли пока, что — то не видно — сделал заключение старик, и крякнул по-стариковски, громко, не смущаясь.
— Всё это ерунда Саня — заметил Данила.- А ты лучше скажи, как с этим быть, что стариков на улицу выгонять стали, какое право такое нашлось у них, и как ты сам то? Ведь, кто был богатым, да у кого дома полукаменные, со вторым верхом, как у Горбунова, тех уж раскулачили, а твои родители подходят под эту метлу? Ну, была лавчонка. Так, тот же Васька Гаранин бегал за керосином, а когда кончался, сетовал, просил, чтоб дед Матвей привёз скорей, да ещё чего ни будь, послаще. А теперь донос на него написал, и ведь приняли же, не побрезговали такой кляузе.
Саня долго не отвечал. Старался найти нужные слова, объяснения, но видимо, так и не найдя, сказал только следующее: «Сделать я ничего не смогу на данный момент. Можешь меня презирать, но времена сегодня такие. — И уже тише, добавил: — Всякая сволочь норовит из грязи, да в князи, а на Руси, « таких», всегда хватало. А там, наверху не особо и вникают в подробности.
— Так неужто и правда не победит?- с горечью ответил Данила и задумался.
— Правды искать конечно можно, и она есть, но можно искать, и голову потерять, как говорится — ответил Александр, и ещё добавил: «Родителей я к себе заберу, завтра же и отправимся, с обозом до райцентра. Жить есть где. Им комнату выделим. Квартира, правда, казённая, но я думаю, до выселения дело не дойдёт, всё образуется. Руководство завода поможет, в должности меня обещали восстановить. Такие специалисты, хвалиться не буду, стране нужны. Так что всё уладится.
— Ну дай то Бог, дай то Бог — подбодрил Данила, и положил руку на грудь, в область сердца.
— Что? болит? Посмотришь на тебя Данила и скажешь: — Что — то не ладное с твоим здоровьем твориться, совсем ты располнел, вот сердечко твоё и не справляется.
— Так ведь вроде и не сижу, чтобы зажиреть, как перед убоем борову, до последнего времени не чувствовал не замечал.
— Да и последнее время Саня, всё хозяйство на себе, мало ли дел. Теперь работника не нанять, гляди ко, что творится. Вот и надсадил, ещё пуще я здоровьице то, а всё вот где; (И Данила легонько постучал кулаком, себя в грудь) Всё в душу ложиться, всё теребит её, покоя не даёт. Новый год не за горами, тридцатый, а настроения нет никакого, аж боязно. До весны бы дожить, не больно я зиму люблю, долгая она, морозная.
— Ну ты раньше то времени себя не хорони, детки вон ещё малые у тебя, ты давай бросай, настрой такой, понял!- категорично и утвердительно подытожил нелёгкий разговор друг Саня, после чего вышел на улицу покурить.
Поздняя осень понемногу, но бесповоротно, уступала свои права зиме, прибавилось снега, ночи становились холоднее.
«Наверное, уже не растает, снег то» — подумал Александр, и закурив, уже вслух, негромко добавил: — как же не хочется уезжать, Родина, что ждёт тебя завтра? Какая судьба?
Рано утром, ещё едва рассвело, Данила запряг лошадь, чтобы довести друга и его родителей-стариков, до того места, где собирался обоз. Многие мужики уже были наготове. Курили, обсуждали последние новости украдкой, озираясь по сторонам. Подъехавших к обозу людей поначалу не признали, но узнав, угрюмо косились, с какой- то ненавистью и злобой. Один, самый горластый из всех мужиков, посмотрев внимательно, сначала на стариков, потом на Данилу, язвительно с усмешкой сказал: — Что, жисть, не масляная пошла, Бог то, он всё видит.
Тётка Ульяна, помолчав немного, спокойно так ответила: -Тебе ли Бога то упоминать, ирод, креста на тебе нет, окаянный.
И в правду, мужик этот осёкся, замолчал быстро, и больше не ёрничал. Наверное, и впрямь, не было на его шее креста. Может и был он раньше, да следуя новым веяниям, снял мужик этот крест с себя. Так было со многими. Время «перемалывало» человеческие души, заставляя жить по новому, по-современному. И в избах-читальнях висели плакаты : «Без Бога -шире дорога», ну и в таком духе.
Другие мужики уже не заговаривали с подъехавшими людьми, и только молча переваливали мешки, устилали соломой задок саней, что бы мягче было коленям, и не так холодно.
— Да Саня, не приветливо нас тут встретили, ну да ничего, договоримся сейчас. И Данила смело направился к голове обоза, к бригадиру, который молча попыхивал закрученной в козью ногу, самокруткой, и о чём то думал.
— Слышь, дядька Иван, возьмёшь попутчиков до райцентра, троих, надо им обязательно.
— А ты что же , сам не в силах отвезти, видишь гружёный я, лошадь не механизм, не аппарат какой, сам вези! Данила зло посмотрел на бригадира и тихо сказал: — Нездоровится мне нынче что то, я заплачу. Он показал из-за пазухи то, от чего у бригадира изменилось выражение лица, и тот, сразу подобрев, согласился помочь, распределив «пассажиров» по отдельности, на трое саней. Одно дело было сделано, и Данила с облегчением вздохнул, провожая грустным взглядом конский обоз, вскоре совсем скрывшийся за поворотом. Он одиноко шёл домой, под ногами похрустывал ноябрьский снег, а в голове всё кружились мысли: «Нет, не может быть так, чтобы и к ним не пришли, придут, и что тогда? Если просто всё отберут, и выселят из дому, а если куда подальше. Как же дети? Вся боль об них, как они то жить будут дальше, если со мной что? И мать жалуется, нездоровится ей тоже последнее время что то, да… ну и дела, ожидание это, с каждым днём, сильнее давит»
С этими тяжёлыми мыслями Данила незаметно дошёл до парадного крыльца своего дома, присел на лавочку. Домой, с такими мыслями не хотелось заходить. Он пытался их прогнать, но это ему плохо удавалось. И только тогда, когда он поёжился от морозца, ему пришлось всё же зайти в дом. Прасковья задумала печь пироги, был какой-то церковный праздник, и в доме вкусно пахло, только что испечёнными творожниками, ватрушкой с черникой, да пирогом с мясом. Дети, мирно ещё спали, в доме было уютно и тихо. И только старый кот Тимофей, тёрся об подол хозяйки, в надежде заполучить в скором времени, кусочек мясного пирога.
— Да уйди ты, ноги сплетаешь, того гляди упасть недолго, негромко прикрикивала Прасковья на кота, но тот, не реагируя, продолжал делать своё дело.
— Ну и наглец, ну и наглец, мы сами ещё не завтракавши, а он тут как тут, всё чует. С печки, первым делом к шестку.
— Да дай ты ему чего ни будь, а то ведь так и не уймётся- посоветовал Данила жене, ставя самовар к завтраку.
— Что- то ты Данилушка и лицом, сам на себя не похож, вижу, маешься всё. Только, майся, не майся, легче от этого не будет, уж как Бог даст.
— А может и не даст.
— Что ты, что ты Данила, не говори так, прошу, нельзя нам отступаться, мы люди православные, и другое нам чуждо.
— А им? тем, которые стариков на улицу, им знать не чуждо, всё Прасковья перевернулось, веками создаваемое, всё рухнуло в одночасье.
— Молчи Данила, Христом — Господом прошу, молчи, и им будет кара божья, за все грехи, время придёт, и им, слёзы, да горе людское аукнется.
— Ладно Прасковьюшка, самовар закипел, готов, давай на стол накрывай, да пироги помельче режь, а то детки только крошат больше, приучать их надо к бережливости, а то…..
— Не надо о плохом, не думай, изводишь ведь сам себя, лекарство вон сердечное, уж кончается, надо бы прикупить в запас.
Завтракали, по привычке, по устоям деревенским молча, чтя традиции, степенно, без суеты, перекрестившись сначала на образа, прочитав короткую молитву, которую научила читать Прасковью, её мать, а матушку учила её мать, и так велось, из поколения в поколение. И казалось, что всё это действительно нерушимо, незыблемо, вечно.
На «Николу», после сильного приступа Данила скончался. В доме было сумрачно после похорон. Витала атмосфера утраты, и невосполнимого горя. Даже дети, уже не так резвились, как прежде, чувствуя и понимая, как тяжело матери, как они будут жить без тятьки. А тут ещё и свекровь слегла совсем, из-за такого удара, и паралич не давал ей двигаться и говорить. Она только мычала, пытаясь, что — то сказать Прасковье, когда та кормила её, но не могла. И лишь слёзы катились у неё из глаз. Прасковья, вскоре, как сразил паралич свекровь, забрала её к себе. Но недолго мучилась, пожилая женщина, и вскоре ушла навсегда вслед за сыном. И осталась Прасковья, с тремя малыми детками, считай, одна. Были ещё дальние родственники в других деревнях, но с ними Прасковья мало виделась, и мало общалась, и это, какое — то тягостное одиночество легло на Прасковьины плечи тяжёлым грузом. И только дети не давали замкнуться, забросить хозяйство, скотину. Дочка старшая помогала матушке, как могла, и постепенно горе утихало, время залечивало невосполнимую утрату, и после сорокового дня, стало как-то полегче Прасковье.
Но горе не приходит одно, и чёрная полоса, словно пробежавшая чёрная кошка, опять обрушилась на Прасковью. Всё, о чём так переживал покойный муж Данила, всё вернулось на круги свои. В конце января, когда Прасковья отправила деток в школу, в дом настойчиво и решительно постучали. Прасковья, открыв дверь, увидела на крыльце незнакомых людей, и местный актив, возглавляемый, всё тем же, Васькой Гараниным. Васька нагло ухмылялся, пожирая своими вороными зенками молодую вдову, держа в руках, какую – то бумагу.
— Ну что людей добрых на улице морозишь — прокричал Васька — пускай скорее в дом, да самовар ставь, люди с района, с дороги дальней.
— Так вроде я и не приглашала никого, чтобы чаи распивать, с незнакомыми мужиками.
— Ну , ну, ты поговори ещё у меня Прасковья, раз чаем не хошь угощать, так на ко бумагу, ознакомься, чай грамотная.
Прасковья внимательно читала бумагу, и с каждой строчкой руки её дрожали всё больше, и в конце голова закружилась, дыхание перехватило, и Прасковья упала в обморок.
— Вот ведь бабы, народ какой, на всё хороши, а нервишками слабы, ей бы нашатыря , очухаться побыстрее- пробормотал Васька, и начал , под предлогом поиска лекарства, рыскать по ящикам столов, в комоде, как вор в чужом доме, чувствуя безнаказанность.
Наконец Прасковья пришла в себя. Лицо её было бледным, она едва сдерживала слёзы, и лишь тихо спрашивала, как будто у самой себя: « И куда нам теперь, посреди лютой зимы, с малыми детками, куда нам теперь, неужто, не пожалеете?»
Уполномоченный из района что то всё разъяснял, зачитывал, а Прасковья его как будто и не слышала. Всё проплывало как в дурном, тяжёлом сне, и Прасковья не верила тому, что происходило вокруг. Опись имущества, скотины, прочего добра, что было накоплено за совместную жизнь с Данилой. Ладно хоть Данила, как будто чувствовал, припрятал деньжонок, незадолго до смерти, как он говорил: «На чёрный день», и вот этот чёрный день настал. Но это, мало утешало. Ломалась, проваливалась в какую- то бездонную пропасть, вся та жизнь, которой они жили с Данилой. Всё разом рухнуло. Прав был Данила: «Всё разом». «И ведь не от какой-то беды природной, стихийной, а от власти новой, которая, как говорили, защищает народ, не даёт в обиду, и каждому поможет в беде. А на деле…?» — всё думала Прасковья «На деле то, совсем выходит всё по-другому, чем же они-то, эту власть новую прогневили? неужели не разберутся, не сжалятся над детками малыми».
Но зря тешила такими мыслями себя Прасковья. Ровно через неделю выгнали её вместе с детьми из родного дома на улицу, на мороз, разрешив оставить при себе два небольших узелка. Так и стояла Прасковья около своего дома, в полной растерянности, пока не заплакали детки, и не стали жаловаться на февральский пронизывающий ветер. Прасковью кто- то окликнул. Она не сразу обернулась, вся какая- то в одночасье постаревшая, заплаканная.
— Иди Прасковья к председателю сельсовета, а то деток застудишь, да и сама захвораешь. Просись, чтобы хоть до весны, люди добрые пустили, а там, уж как Бог даст. Да ты слышишь ли меня, Прасковья? — И подошедшая женщина потеребила за плечи, стоявшую неподвижно Прасковью. — Замёрзните ведь, иди, я бы и сама пустила, так у меня самой семеро по лавкам, да старики ещё. Да и боязно это, без разрешения то, говорят, что пособники, таким людям, тоже наказываются. Иди пока, засветло, да председатель на месте, иди с Богом, Прасковьюшка.
Прасковья, после некоторого замешательства всё же, медленно , вместе с детьми, поплелась по узкой заснеженной тропе, туда где находился сельсовет, а та женщина, которая посоветовала им идти к председателю, тайком перекрестила их вслед, смотря с слезами на уходящую Прасковью с детками.
В таком же экспроприированном доме, в одной из комнат было сильно накурено, и табачный дым висел коромыслом, так что с непривычки , было тяжело дышать. Прасковья поздоровавшись, тихонько усадила детей на лавку, а сама присела к столу, на мягкий старинный стул, на который властным жестом указал председатель.
— Ну, по какой нужде пожаловала Прасковья, сухо спросил председатель сельсовета, и уставился на Прасковью, с надменным взглядом.
— Так Вы же знаете должно быть всё, Иван Михалыч- тихо и робко отвечала Прасковья.
— Как не знать, такие дела, всё знаю, на то я здесь и власть Советская, партия меня поставила на это дело.
— Так раз партия, может партия и разберётся, может не оставит деток малых на улице? — и Прасковья не договорила, председатель её резко оборвал.
— Ты тут Прасковья детками своими партию не разжалобишь, у партии забот выше крыши и без Вас, раньше надо было думать, когда хотели, да жили , с муженьком своим всласть, вон он как раздобрел, от такой жизни и помер. Все Вы одним миром мазаны, одним словом «Кулаки», вот и расплачиваетесь, время пришло, должки отдавать, и ничего противозаконного, получается нет.
И председатель ухмыльнулся, и опять закурил едкий табак, не взирая ни на детей, ни на Прасковью.
Прасковья сидела в каком то оцепенении, и думала: «Правда не на её стороне, что же делать, к кому идти, скоро ночь?». Она резко встала со стула и бросилась в ноги председателю. Тот не ожидал такого поворота событий, и немного опешил.
Христом — Богом молю Вас, не дайте сгинуть деткам моим, хоть до весны, разрешите пожить у добрых людей, тётка Евдокия приютит, хоть у неё и у самой внучата грудные, да в тесноте, не в обиде, смилуйтесь, Иван Михалыч. Я работать пойду, хоть на хлеб только заработать, да и на том спасибо, хоть до весны?- По щекам Прасковьи текли слёзы, и она жалобно смотрела в глаза председателю, боясь, что тот откажет, не сжалится.
Председатель, после некоторого замешательства всё же ответил Прасковье.
— Знаешь ли ты Прасковья, что директива есть, на счёт « вашего брата», и я как , Советская власть, обязан её выполнять. Выселять таких, не то, что из домов, из деревень. Да ты встань с колен то, встань.
— Так неужели я под эту метлу, с малыми детками подпадаю — осмелилась было Прасковья, сказав это. На что председатель только гаркнул, как старый ворон, но всё же, докурив очередную «самокрутку», посмотрев на детей, жавшимся, как цыплята друг к дружке, смилостивился, и, всё так же, властно и надменно произнёс: «Ну поживи пока у Тётки Евдокии, коль пустит, и чтобы тише воды, ниже травы у меня, ясно!?»
— Да уж куда яснее то, Иван Михалыч, всё поняла- покорно сказала Прасковья, поклонившись зачем то, как барину председателю. Она до конца не осознавала, зачем упала ему в ноги, зачем отвесила поклон, зачем так унижала себя? Но ради детей, она готова была терпеть. Материнский инстинкт перебарывал чувство гордости.
Председатель, молча, махнул рукой, дав знать, чтобы больше ему тут не мешали. Он сидел за старинным суконным столом, принесённым сюда из Горбуновского дому, заваленным всякими папками с бумагами. У председателя, наверное, было много работы, может до ночи, и ему было не до таких вот слёзных дел, особо, как в случае с Прасковьей. Не задумывался председатель об этом.
Уже вечерело, когда Прасковья с детьми подошла к крыльцу Максимовых, дядьки Андрея, и тётки Евдокии. Для Прасковьи они были чужими людьми, но бывало, Прасковья часто ходила до замужества в гости к своей подружке Клаве, хоть та и была на целых шест лет младше её, и была для Пашеньки, будто младшей сестрой. Прасковью всегда привечали в этом доме, несмотря на то, как считалось, что Прасковья была из зажиточной семьи. И не было тут никогда никакого расчета. Просто дружба и человеческая доброта была присуща этим людям. А ещё милосердие, без которого русскому человеку не выжить в тяжёлую для него пору.
Прасковья знала это, и знала, что здесь её не прогонят, хоть и был этот дом полон людьми. У Клавдии был ещё младший брат Шурка, озорной и непоседливый паренёк. Но он любил, когда в доме было многолюдно, и всё, показывая какие — то фокусы, говорил: — Вот вырасту и буду в цирке работать. Хоть Шурка цирка и в глаза не видел. (Убили потом Шурку на войне, ещё в сорок первом)
— Кто там, не заперто ведь — услышала Прасковья голос тётки Евдокии.
— Это я Тётя Евдокий, Паша — ответила несмело Прасковья.
— Пашенька, милая доченька, всё знаю, знала, что придёшь, не побрезгуешь. Не говори ничего, проходи, деток вон совсем заморозила, да и голодные, точно знаю, идёмте быстрей в избу. В избе было натоплено, пахло кашей пшённой, хлебом. Прасковья не удержалась и разрыдалась, дав волю чувствам. Её поняли, её приняли, и так она прожила в этом доме до весеннего тёплого мая, когда цветёт по весне в этих краях черёмуха так, что запах этот дорог, незабываем, и деревня, одетая в этот наряд, выглядит празднично, красиво, как молодая невеста перед свадьбой.
Прасковья собралась в путь. Её провожали многие. Почему они пришли, никто и не мог ответить. Но Прасковья была благодарна всем.
— Ты береги себя дочка в городе то, мало ли что, пиши письма, как устроишься — всё наказывала тётка Евдокия, утирая кончиком платка слёзы.
— Деток береги, ну прощай, даст Бог, свидимся. И тётка Евдокия, не таясь, открыто, перекрестила Прасковью с детьми. Лошадь взбрыкнула по привычке, тронулась лениво с места, и заскрипев, телега опять «запела» свою унылую дорожную песню. Люди на прощание махали рукой, кто — то звал в гости, но больше в этих краях Прасковью и её детей никто из них не видел.
Александр Умнов
Помощь сайту: Отправить 100 рублей
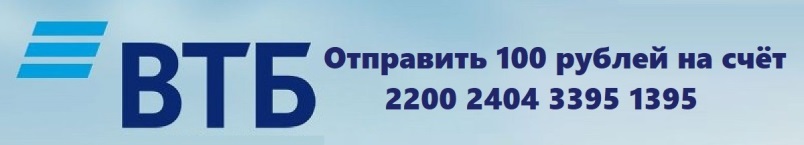
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — https://klauzura.ru/
|

