Типичный визионер-романтик — капитан Ахав из романа Г. Мелвилла «Моби Дик». Иллюстрация Рокуэлла Кента.
Продолжая разговор о наиболее общих характеристиках русского секуляризированного богословия и религиозной философии, начиная со славянофилов (см. Оправдание греха в гуманистическом богословии; Гностицизм почвенничества и его последствия для отечественной богословской мысли), необходимо сказать еще о таком их стабильном признаке, как своеобразное возрождение неоплатонической (и вообще свойственной языческой метафизике и мистике) идеи экстаза (или исступления) как высшей познавательной способности человеческого духа, в лице лучших своих представителей способного прозревать сверхъестественный «мир идей» как божественных сущностей бытия (или «логосов» – в богословской терминологии).
«Все глубочайшие истины мысли, вся высшая правда вольного стремления доступны разуму, внутри себя устроенному в полном нравственном согласии с всесущим разумом, и ему одному открыты невидимые тайны вещей Божеских и человеческих» (Хомяков А. По поводу отрывков найденных в бумагах И.В. Киреевского).[1] «Это сознание, совершенно изменяющее характер нашего Богомыслия, и которое мы не можем извлечь прямо из одного созерцания внешнего мироздания, возникает в душе нашей тогда, когда к созерцанию мира внешнего присоединится самостоятельное и неуклонное созерцание мира внутреннего и нравственного, раскрывающего пред зрением ума сторону высшей жизненности в самых высших соображениях разума» (Киреевский И. Отрывки).[2]
«Cверхчувственное превращено в предмет действительного опыта благодаря тому, что допускается в качестве возможного экстатическое перемещение человеческого существа в Бога и как его следствие — необходимое, безошибочное созерцание не только божественного существа, но и сущности творения, а также всего происходящего при нем» (Шеллинг Ф. Философия откровения. 7-я лекция).[3] Сопровождается или завершается эта экстатическая гносеология, как правило, соответствующей концепцией теосиса (обожения), по сути, противоположной святоотеческой.
В христианском «исступлении» Бог открывается человеку из Своей запредельной неприступности (что, собственно, и называется «Откровением»), отвечая на призыв кающегося грешника («прииди и вселися в ны»), благодатно действует в человеке, сообщая ему Свои добродетели и открывая истины («внутрь меня явил мне мудрость [Твою]» (Пс 50:8); «и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились… И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать»; после чего «взошел на верх дома помолиться… он (Петр) пришел в исступление и видит отверстое небо» (Деян 2:2-4; 10:10-11)).
В романтическом исступлении имеет место скорее обратное пересечение границы между естественным и сверхъестественным: человек по собственной инициативе и собственными усилиями «выходит из себя» реального и проникает в сферу божественного, черпая оттуда как из открытого им месторождения «полезного ископаемого», для чего нужно лишь «совокупление всех познавательных способностей в одну силу, внутренняя цельность ума, необходимая для сознания цельной истины» (Киреевский И. О необходимости и возможности новых начал для философии).[4]
Иными словами, в философскую сотериологию и религиозную гносеологию такого рода возвращается в той или иной форме сказывающаяся идея безличного «божественного начала» (недаром В. Соловьев и С. Булгаков много оперируют этим термином) как «первопричины» бытия, на который человек естественно притязает в качестве субъекта бытия. Ортодоксальное сознание «личностного общения», «живого Бога», конечно, присутствует, но при этом теряется собственно христианское качество этого общения – отношения Спасителя и спасаемого, Божественного милосердия и раскаявшегося грешника, святой воли Небесного Царя и осудившей свои преступления воли человека: «И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись» (Мф 8:2-3).
В романтическом же богомыслии повторяется скорее другая библейская ситуация: и подошел Адам к древу познания и, простерши руку свою, сказал: хочу все знать! Или, если воспользоваться мифологией возрождаемого здесь язычества: подошел Прометей к источнику божественного огня и, простерши руку свою, исхитил как «имеющий право», а не «тварь дрожащая». В этом плане романтизм явился не христианской реакцией на рационализм эпохи Просвещения, или «века Разума», как принято считать и как сам романтизм себя сознавал, но логичным продолжением этого века, «высшей» формой этого рационализма, а именно, его сакрализацией. «Если мы замечаем, что интерес к философским системам ослабел; то из этого не следует еще заключать, чтобы ослабел интерес к самому мышлению философскому. Напротив, оно более, чем когда-нибудь, проникло во все другие области разума» (Киреевский И. О необходимости и возможности новых начал для философии).[5]
Отсюда другой (более распространенный) вариант этого же экстатизма – сверхъестественное обретается в скрытых глубинах самого человеческого духа как некая высшая часть души, идеальное Я, к которому можно продраться сквозь себя-эмпирического, через наслоения бренной плоти и низшее рассудочное мышление, либо собрать разрозненные силы субъективного духа во «всецелый разум».
«Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого, но достижимое для ищущего, и одно достойное постигать высшую истину, — такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека» (Киреевский И. О необходимости и возможности новых начал для философии).[6] «Ведь в интимной глубине души всегда лежит что-то вселенское, более вселенское, чем на общепринятой поверхности. Всякое новое религиозное учение и новое пророчество было сначала интимно, рождалось в интимной глубине, в мистической стихии, а потом обнаруживалось и завоевывало мир» (Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность).[7] Ср.: «Истинным созерцателем является не рассудок или разум, а нечто столь же большее и высшее разума, как и то, что составляет предмет созерцания. В этом созерцании созерцающий Бога увидит в Нем и самого себя простым и чистым. Хотя в таком созерцании есть налицо созерцающий и созерцаемое, две стороны, а не одна, однако, как ни смело это покажется, но можно сказать, что созерцатель тут, собственно, не созерцает, ибо сам становится тем, что есть созерцаемое» (Плотин. Эннеады. VI, 10).[8] «Мы являемся лишь частью себя самих» (Шлегель Ф. О изучении греческой поэзии).[9]
«Мистицизмом можно называть лишь то духовное предрасположение, которое… выводит истинное знание лишь из так называемого внутреннего света, видимого не всем, а замкнутого внутри индивидуума, из непосредственного откровения, чисто экстатической интуиции или чувства» (Шеллинг Ф. К истории новой философии (мюнхенские лекции)).[10] «В христианской религии выражается отношение человека к самому себе, или, вернее, к своей сущности, которую он рассматривает как нечто постороннее. Божественная сущность – не что иное, как человеческая сущность, очищенная, освобожденная от индивидуальных границ, то есть от действительного, телесного человека, объективированная, то есть рассматриваемая и почитаемая в качестве посторонней, отдельной сущности. Поэтому все определения божественной сущности относятся и к сущности человеческой… “Поэтому из всех наук самая ценная и важная – самопознание, ибо кто познал самого себя, познал и Бога”» (Климент Александрийский, Paedag, III)» (Фейербах Л. Сущность христианства. Гл.2).[11]
Хотя сверхъестественное в данном случае имманентно человеку, экстатический принцип теургического действия человека по обретению сверхъестественного сохраняется: граница между реальным и идеальным пересекается опять со стороны реального, пусть идеальное и оказывается теперь сокрытым в недрах самого реального, а не трансцендентным ему. «И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру» (Лк. 17:5), потому что христианская вера – это дар Божий, благодать Святого Духа в человеке. В романтизме же «чтоб проникнуться верою» естественному разуму «необходимо возвыситься к [своему] первообразному единству» («потому-то вера и превышает естественный разум, что он опустился ниже своего первоестественного уровня») (Киреевский И. Отрывки).[12]
Как видно из уже приведенных цитат, принцип исступления в отечественной религиозной философии является неотъемлемой составляющей европейского романтизма, в первую очередь, немецкого. «Ранний романтизм проникнут эсхатологическим ожиданием новой эпохи, обновления человечества, возвращения «золотого века». Это обновление мыслится прежде всего под знаком эстетики, ибо эстетика, по определению Ф. Шлегеля, “это философия целостного человека» (КА,18, S. 200)… Подобно Новалису и Шеллингу, Ф. Шлегель развивался в направлении объективного идеализма: соединение Фихте и Спинозы становится для него программным. Я и мир, индивидуальность и универсум (понятие, отражающее влияние Я. Бёме) – два полюса в пантеистической метафизике Ф. Шлегеля и Шлейермахера конца 90-х годов. Философия – это «эллипс с двумя центрами, один – идеальное разума, другой – реальное универсума» (КА, 18, S. 304); отношения между ними мыслятся динамически, как реализация идеального и идеализация реального. Универсум – это непрерывно становящийся бесконечный организм, его неисчерпаемая динамика проявляется во множестве индивидуальных форм-символов универсума. Ведущую роль в постижении мира играет продуктивное воображение: живую динамику «бесконечного» нельзя фиксировать в мертвых понятиях, ее можно только «открывать и созерцать» в намеках и предчувствиях – в художественных образах-символах и в «высших первопонятиях» — идеях-символах».[13]
«Действительность идей и [их] умственного созерцания несомненно доказывается фактом художественного творчества… Художественные идеи и образы не суть сложные продукты наблюдения и рефлексии, а являются умственному взору разом в своей внутренней целости (художник видит их, как это прямо утверждали про себя Гете и Гофман)» (Соловьев В. Чтения и Богочеловечестве. Ч. 5). «Утверждение Гете и Гофмана» оказывается достаточным доказательством «умственного созерцания» этими визионерами божественных логосов, потому что сама идея такого визионерства, его доступности для человека, является предметом этой гуманистической веры, вдохновляя новых адептов на поиски «в глубине души того внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума» (Киреевский И. О необходимости и возможности новых начал для философии).[14] «Возможность такого знания так близка к уму всякого образованного и верующего человека, что, казалось бы, достаточно одной случайной искры мысли, чтобы зажечь огонь неугасимого стремления к этому новому и живительному мышлению, долженствующему согласить веру и разум, наполнить пустоту, которая раздвояет два мира, требующие соединения, утвердить в уме человека истину духовную видимым ее господством над истиною естественною, и возвысить истину естественную ее правильным отношением к духовной, и связать наконец обе истины в одну живую мысль; ибо истина одна, как один ум человека, созданный стремиться к Единому Богу» (Киреевский И. Отрывки).[15]
Истины Христианства открыты Богом святым пророкам и апостолам, сохранены в долгой борьбе с ересями и переданы от одних Святых отцов другим, от одного Вселенского собора к другому. Истины романтической религии открыты тайнозрению любого «великого человека». Они передаются «непосредственно» из «божественного начала». Каждый раз это эксклюзивное «откровение» трансцендентного, вернее – его открытие дерзновением метафизика. На этом гуманистическом обожествлении человеческого духа и построено славянофильство и почвенничество. «В конце философской системы, между ее исконной истиной и ее искомой целью, лежит уже не мысль, имеющая определенную формулу, но один, так сказать, дух мысли, ее внутренняя сила, ее сокровенная музыка, которая сопровождает все движения души убежденного ею человека. И этот внутренний дух, эта живая сила свойственна не одним высшим философиям, доконченным и сомкнутым в своем развитии. Система принадлежит школе; ее сила, ее конечное требование принадлежат жизни и просвещению всего человечества» (Киреевский И. О необходимости и возможности новых начал для философии).[16] Платон и Дамаскин, Гегель и Златоуст, Пушкин и Павел оказываются явлениями одного ряда, возможными в различных культурах и религиях покорителями вершин «бесконечного», лишь более или менее преуспевающими. «Натура Бога прямо противоположна натуре человека. Человек по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе. Но если человек не человек — какова же будет его природа? Понять нельзя на земле, но закон ее может предчувствоваться и всем человечеством в непосредственных эманациях (Прудон, происхождение Бога) и каждым частным лицом. Это слитие полного я, то есть знания и синтеза со всем» (Достоевский Ф.М. Записная книжка 1863-64 гг.).[17]
Но была у этого экстатизма, как и положено в диалектике, оборотная сторона. «Он все-таки дошел наконец до чрезвычайно парадоксального вывода: “Что же в том, что это болезнь? — решил он наконец. — Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?” Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно “красота и молитва”, что это действительно “высший синтез жизни”, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить» (Достоевский Ф.М. Идиот).[18] Этот «туман» иррационализма, эта диалектическая «парадоксальность» и «синтетическая» противоречивость, эта декадентская «невыразимость на человеческом языке» узренных в исступлении «вещей в себе», или, попросту, эта неврастеническая опустошенность – вот трагикомический перечень «трофеев», с которыми Икары романтизма возвращались на бренную землю из своего спонтанного выхода в отрытый космос или погружения во внутренние глубины философской экзальтации.
Если в исихазме, по учению преп. Григория Синаита, в частности, подобного состояния как залога обожения подвижник достигает «на высших состояниях совершенства», то в романтическом исступлении, представляющем (в случае славянофилов) профанацию этого учения, речь идет именно о естественных человеческих способностях и возможностях (вернее, опять же, о притязании на сверхъестественное на как естественное для человека), о том, чтобы сделать такое состояние широким достояниям культуры («развитие этого мышления должно быть общим делом всех людей верующих и мыслящих»), почему западная философия и ее рационалистическая методология рассматривается как подготовительный этап этой высшей формы познания и разумения. Более того, даже само «любомудрие св. Отцов представляет только зародыш этой будущей философии, которая требуется всею совокупностью современной Русской образованности» (Киреевский И. Отрывки).[19]
Опять же, если в святоотеческом «любомудрии» Творец собирает распавшиеся в греховном естестве внутренние скрепы Своего творения («Начало умной молитвы есть действие, или очистительная сила, Святого Духа и таинственное священнодействие ума… середина — просветительная сила и созерцание, а конец – экстаз и восхищение ума к Богу» Григорий Синаит св. Главы, расположенные акростихами. [20]), то в романтическом «исихазме» это «восстановление единства естества» осуществляет сам «верующий разум» («вера обнимает всю цельность человека, и является только в минуты этой цельности и соразмерно ее полноте. Потому главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство, и таким образом восстановляется существенная личность человека в ее первозданной неделимости» (Киреевский И. Отрывки),[21] что с позиции Синаита и можно рассматривать как «признаки прелести». «Начало возрождению души полагается в кардинальном обновлении взгляда человека на себя, и в первую очередь в признании своего наличного состояния противоприродным и безблагодатным [Главы, расположенные акростихами. 1, 4]. Такая самооценка сопровождается осознанием своей виновности перед Богом, единство с Которым было прервано по свободной инициативе человека [О действиях благодати, происходящих от молитвы, и о признаках прелести. 4]. В результате в человеке созревает вдохновенное волевое решение возвратиться на путь верности и послушания Творцу [Главы, расположенные акростихами. 122]. Его аскетический подвиг приобретает черты воплощаемого в жизнь покаяния [Иные главы. 2, 5]».[22] У Киреевского же и Хомякова, повторим, речь идет о поступательном развитии единого общечеловеческого разума в духе гегельянства, где если порой и вспоминают о таких категориях как покаяние и смирение, молитва и аскеза, то они теряют в этой космогонии все свои ортодоксальные значения.
Космогонической идеей «становящегося универсума», в рамках которой существует идея романтического экстаза, объясняется то, что дело не ограничивается гносеологией, или созерцанием божественных «логосов», но этот же титанический принцип «законного взыскания» сверхъестественного осуществляется и в романтической «сотериологии» – и вслед за умозрением горних тайн должно было происходить воссоединение души незваного визионера уже с самим «божественным началом». Инверсия христианской сотериологии здесь сказывается все той же перестановкой активного и пассивного начал: действует в основном человек, «бесконечному» же отводится второстепенная роль объекта творческой деятельности первого. Даже если присутствует формально ортодоксальное положение, что «активным началом» в этой паре является все-таки Божество, экстатическая идея сказывается в таком случае в виде навязывания Ему романтических «стремлений», идей всеединства, в частности. «Божественное начало является здесь (в мировом процессе) как действующая сила абсолютной идеи, стремящейся реализоваться или воплотиться в хаосе разрозненных элементов. Таким образом, здесь божественное начало стремится к тому же, к чему и мировая душа, — к воплощению божественной идеи или к обожествлению (theosis) всего существующего чрез введение его в форму абсолютного организма, — но с тою разницей, что мировая душа, как сила пассивная, как чистое стремление, первоначально не знает, к чему стремиться, то есть не обладает идеею всеединства, божественный же Логос, как начало положительное, как сила действующая и образующая, в самом себе имеет и дает мировой душе идею всеединства как определяющую форму» (Соловьев В. Чтения о Богочеловечестве. Чт.10).[23]
Неоплатоническая идея эманации «бесконечного» в «конечное» определяет принципы романтической историософии: созерцание сущностей в означенных условиях оказывается доступным не только в физическом, но и в социальном космосе, в историческом процессе, который (по принципу языческого пантеизма) переживается как полубожественный, как все та же «реализация идеального», актуализация «бесконечного». События исторической жизни народов воспринимаются как стадии становления единого богочеловеческого универсума-организма.
Читать раскрытую книгу природы, читать криптограмму судьбы земных царств и племен – значит опосредованно созерцать божественные эйдосы, потому что весь мир и все человечество, весь материальный универсум, это воплощение универсума идеального, поступательное откровение «божественного начала».
В истории мы ищем самого начала рода человеческого, в надежде найти ясное слово о его первоначальном братстве и общем источнике. Тайная мысль религиозная управляет трудом и ведет его далее и далее… В этом смысле история уже не есть простая летопись; но она также и не отвлеченное созерцание внутренней жизни личной, проявленной во внешности племен и народов. Духовный характер сохраняется вполне, но вещественность получает новую важность… Всякое произведение письменное, всякое творение ученное, всякий поэтический отголосок, всякий памятник мертвый, как, например, здание, или живой, как язык или физиономия, делаются пособиями, точками отправления или данными для разрешения нашей задачи… Исполинские шаги, сделанные наукою в наше время, подают нам много надежд на будущее; но должно признаться, что самая величина пройденного поприща указывает на неизмеримость того, которое нам еще должно пройти, прежде чем сомкнется круг истории. Число разрешенных загадок, исправленных ошибок и открытых истин еще весьма малозначительно в сравнении с неразгаданным и неисправленным. Лучшее же приобретение наше до сих пор — это добросовестность в изложении фактов, качество очень редкое тому лет 50, теперь довольно обыкновенное. Не знаю, чему приписать такое приращение добродетелей человеческих: тому ли что страсти прежние утихли, или тому, что обман сделался почти невозможным при распространившейся учености (Хомяков А.С. Записки о всемирной истории).[24]
«Такое приращение добродетелей человеческих», в частности, познавательных, следует «приписать» массовому психозу романтизма, на языке Священного Предания обозначаемого духовной «прелестью», когда греховные страсти солипсически переживаются как божественные добродетели, а экзальтации «лжеименного разума» и инспирированные падшими духами заблуждения – как божественные истины.
Как ни это ни удивительно, но эти вульгарные, с точки зрения церковной науки, полуязыческие представления вызывают интерес и оказывают влияние на собственно богословскую мысль. Пусть происходит это и не путем прямого заимствования основных квазихристианских положений романтизма (ввиду их грубого противоречия истинам христианства), но путем смешения и, как следствие, деформации традиционных сотериологии и гносеологии, появлением в них того или иного гуманистического уклона и отголосков романтизма, предающих традиционному вероучению в новом изложении своеобразную (столь свойственную оригиналу) неопределенность (интуитивизм и адогматизм) и отвлеченный идеализм (утопизм). «Интуитивная логика, т.е. доктрина, почерпающая свои положения или аксиомы не из среды общих формальных понятий или авторитета» [например, церковного авторитета: догмата, канона, заповеди], «а опирающаяся на нравственные истины, разделяемые всяким, кто в них пожелает вслушаться, говорит человеку о законах его же собственной внутренней жизни и таким образом не понуждает его мысль к соглашению, но предоставляющая его собственному разуму и совести чрез постоянный опыт проверять ее» (архим. Антоний (Храповицкий). Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф.М.Достоевского).[25]
В сотериологии эта богословская рецепция романтической религии сказывается различными искажениями в ортодоксальной концепции обожения, прежде всего, креном в сторону пелагианского нравственного самосовершенствования и вообще самоспасения; либо (в качестве уже спасенного) в сторону «синергического» благодатного действия человека или Церкви по «преображению мира»; либо как широкое, девальвированное толкование спасительного действия Бога за видимыми границами Церкви и, как следствие, хилиастические упования; и другими «динамическими» (диалектическими) отношениями между Церковью и миром, Богом и человеком. Романтическая формула «реализация идеального и идеализация реального», ошибочно принятая за вариацию ортодоксальной формулы «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом по благодати», оборачивается фактическим обмирщением Церкви и воцерковлением мирских попечений или просто греха, неоплатоническим стиранием границ между Нетварным и тварным, между ересью и Православием.
«Трансцендентное становится имманентно миру — вот в чем смысл мировой культуры» (Бердяев Н. Христос и мир).[26] Воспринимаемый богословской мыслью, потерявшей святоотеческую трезвость и строгие догматические ориентиры, этот неоплатоническо-гностический смысл гуманистической культуры порождает антиюридическую теорию Искупления, где «правовое жизнепонимание» (арх. Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении)[27] традиционного толкования догмата оценивается именно как «трансцендентное», внешнее по отношению к человеку (то есть антропоцентрически), которое «становится имманентным» в «нравственно-субъективной» теории «восстановления естества»[28] (где ортодоксальное понимание внутреннего возрождения Божественной благодатью, опять же, перемешено с романтическими смыслами субъективно-идеалистического «целостного умозрения» и объективно-идеалистического всеединства; ср.: «у кого сей Логос-искупитель поселяется в душе, тот избегает избегает всяких, даже и преднамеренных грехов… Искупление человека рассматривается Филоном как естественный, в человеческом разуме и совести совершающийся факт… Чтобы освободиться от греха и стать в полное примирение с Божеством, для этого человек должен внимательно выслушивать внутренний голос своей природы или совести»).[29]
Сам этот богословский неологизм арх. Сергия – «жизнепонимание» – выдержан в «синтетическом» духе славянофильского «живознания» как выражения все той же романтической философии всеединства, «слития» в одно «идеального» («знания») и «реального» («жизни»). Еще нагляднее влияние романтического принципа «становления трансцендентного имманентным» сказывается в перенесении положений триадологии – в экклезиологию и антропологию, что становится навязчивой идеей нового богословия.
«Мы ищем Церковь, в которую вошла бы вся полнота жизни, весь мировой опыт, все ценное в миру, все, что было подлинным бытием в истории» (Бердяев Н. Христос и мир).[30] И такая «живая церковь» не заставила себя долго ждать не без участия тех же теоретиков «органического» «жизнепонимания». Подспудная разрушительность для Церкви этих идей, их скрытая за богословскими спекуляциями и профанациями революционность в отношении Священного Предания достаточно быстро вышли наружу (показательными плодами этой рецепции стало то, что оба крупнейших представителя богословской школы «нравственного монизма» – митр. Антоний и митр. Сергий – побывали в расколе не только с Церковью, но даже друг с другом).
«Люди старых религиозных чувств и старого сознания идут в Церковь спасаться от мировой жизни, замаливать грехи, накопившиеся в миру, и все, чем они живут, оставляют у входа в ограду Церкви, все самое дорогое для них, самое ценное в их жизни, все творческие порывы, любовные грезы, вся сложность их опыта, весь путь мировой истории — все это не входит с ними в Церковь, не смеет войти. Этого дуализма мы уже не можем вынести, этот дуализм стал безбожным, он умерщвляет религиозную жизнь, является хулой на св. Духа. В Церкви должно быть все наше дорогое, все наше ценное, все нами выстраданное в мире, — наша любовь, наша мысль и поэзия, все наше творчество, отлученное от Церкви старым сознанием, все наши великие мирские люди, все наши приподымающие порывы и мечты…» (Бердяев Н. Христос и мир).[31] Ничего не скажешь, действительно, «это сознание, совершенно изменяющее характер нашего Богомыслия» (Киреевский), подменяющее его святоотеческий дух.
Православие, заявленное старшими славянофилами как исторически необходимый донор («новое начало») для западной философии и веры, само являлось реципиентом этого чуждого ему начала, причем осознанно у Хомякова и Киреевского, согласно протестантским по духу взглядам которых, началом упадка «русской образованности» явилась эпоха не столько Петра, сколько патр. Никона, когда «начали брать образцы из прошедшего порядка Восточно-Римской Империи», «смешивать Христианское с Византийским». Тогда как правильный путь – синтез мифической «древне-русской образованности» как раз с западной культурой: «примирение обеих образованностей в таком мышлении, которого основание заключало бы в себе самый корень древне-Русской образованности, а развитие состояло бы в сознании всей образованности Западной и в подчинении ее выводов господствующему духу Православно-Христианского любомудрия, — такое примирительное мышление могло бы быть началом новой умственной жизни в России»; «развитие этого мышления должно быть общим делом всех людей верующих и мыслящих, знакомых с писаниями св. Отцев и с Западною образованностью»; «думать же, что у нас уже есть философия готовая, заключающаяся в св. Отцах, было крайне ошибочно» (Киреевский И. Отрывки).[32]
Чем же святоотеческая мысль сама по себе недостаточна для романтизма, при всей ее, казалось бы, здесь апологии? – А именно тем, что в ней нет всей этой космогонической «динамики», суетного «вдохновения» («ощущения полета», «живой жизни»), самонадеянного «порыва в трансцендентное» и прочих «высоких» страстей, «так настоятельно требуемых всею совокупностью нашей умственной и нравственной образованности» (там же)…
Эта неогностическая установка славянофильства на синтез христианства с языческой философией и задала вектор дальнейшего развития отечественной богословской мысли.
Александр Буздалов
Примечания
[1] Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова. Изд. 3-е. М., 1900. Т.1. С.282.
[2] Полное собрание сочинений И.В.Киреевского в двух томах. М.,1911. Т.1.С.279.
[3] Шеллинг Ф.В.И. Философия откровения. СПб., «Наука», 2000. Т.1. С.163.
[4] Полное собрание сочинений И.В.Киреевского в двух томах. Цит.изд. Т.1.С.230.
[5] Там же; с.224.
[6] Там же; с.250.
[7] Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность. М.: Канон+, 1999. С.214.
[8] Плотин. Эннеады. К., «УЦИММ-ПРЕСС», 1995–1996.
[9] Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., «Искусство», 1983. Т.1. С.154.
[10] Шеллинг Ф. Сочинения в двух томах. М., «Мысль». Т.2 С.552-553.
[11] Фейербах Л. Избранные философские произведения в 2 томах. М., «Полит. лит-ра», 1955. Т.2. С.43.
[12] Полное собрание сочинений И.В.Киреевского в двух томах. Цит.изд. Т.1.С.276.
[13] Попов Ю.П. Философско-эстетические воззрения Фридриха Шлегеля / Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В двух томах. Т. I. М., «Искусство”, 1983. С. 7-40.
[14] Полное собрание сочинений И.В. Киреевского в двух томах. Цит. изд. Т.1.С.230.
[15] Там же; с.271.
[16] Там же; с.236.
[17] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. СПб, «Наука», 1972-1990. Т.XX. С.174.
[18] Там же. Т.VIII. С.188.
[19] Полное собрание сочинений И.В. Киреевского в двух томах. Цит. изд. Т.1.С.270.
[20] свящ. Дионисий Венюков. Григорий Синаит. Аскетика / Православная энциклопедия. Изд.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»,2007. Т.13.С.60-68.
[21] Полное собрание сочинений И.В.Киреевского в двух томах. Цит. изд. Т.1.С.275.
[22] свящ. Дионисий Венюков. Григорий Синаит. Учение о Св. Троице и Ее участии в спасении человека. Цит. изд.
[23] Владимир Соловьев. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения. СПб., «Худож. лит.»,1994. С.168.
[24] Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова. М.,1904. Т.5. С.30-31.
[25] Богословский вестник. 1893. Т.4. №10. Отд.II. С.44.
[26] Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). 1907-1917. История в материалах и документах в трех томах. М., «Русский путь», 2009. Т.1. С.190.
[27] Архимандрит Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. Опыт раскрытия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Св. Писания и творений святоотеческих. СПб, 1910. С.56.
[28] Там же. С.24.
[29] Муретов М. Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе. М.,1885. С.161.
[30] Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). 1907-1917. История в материалах и документах в трех томах. Цит. изд. С.198.
[31] Там же.
[32] Полное собрание сочинений И.В.Киреевского в двух томах. Цит.изд. Т.1.С.265-271.
Помощь сайту: Отправить 100 рублей
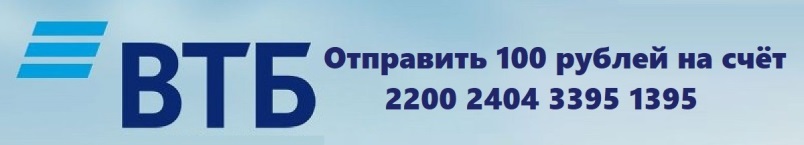
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — http://antimodern.ru/

