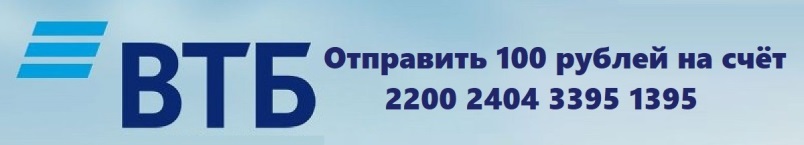Двѣ легенды стоятъ при вратахъ русской исторіи, опредѣляя тѣ культурные раіоны, въ которыхъ, по представленіямъ лѣтописца, развивалась жизнь просвѣщенной христіанствомъ Русской земли.
Первая — о миссіи св. апостола Андрея Первозваннаго, ведя его изъ Синопіи на Русскомъ морѣ черезъ Корсунь по Днѣпру, Ловати и Волхову въ Варяги и оттуда въ Римъ, включаетъ восточно-славянскую Европу въ предѣлы всего христіанскаго универсума, какъ органическую часть вселенской церкви.
Другой, болѣе узкій раіонъ доминирующаго вліянія Византіи, рисуется легендой о сказочномъ основателѣ Кіева, отодвигающей давность непосредственныхъ дружественныхъ связей русскихъ князей съ императорами Восточнаго Рима въ легендарную древность.
Возражая на утвержденія нѣкоторыхъ людей, яко бы Кій былъ перевозчикомъ на Днѣпрѣ, лѣтописецъ указываетъ: «аще бы былъ перевозчикъ Кій, то не ходилъ Царюгороду, но сей Кій княжаше въ роду своемъ, и приходившю ему ко царю, якоже сказаютъ, яко велику честь пріялъ есть отъ царя при которомъ приходилъ цари» (Лавр. лѣт. 1872, стр. 8). Въ легендѣ о Кіѣ, по замѣчанію проф. Айналова, мы встрѣчаемся съ твердо установленными понятіями лѣтописца о величіи Царьграда и о великой чести, которой удостоился Кій (Исторія др.-русскаго искусства, 1919, 41). Эти два культурныхъ раіона: болѣе широкій — вселенскаго христіанства, и болѣе узкій — восточной церкви, втягивали Восточную Европу въ кругъ своего вліянія со временъ глубокой древности.
Вопросъ о томъ, когда первыя сѣмена христовой вѣры пали на почву нашей Родины, для науки навсегда останется неразрѣшимымъ. Каждое передвиженіе человѣка, вольное и невольное — въ цѣляхъ торговли, для грабежа, изъ-за авантюристической любознательности или въ качествѣ плѣнника и товара — неизбѣжно влечетъ миграцію идей, перенесеніе и прививку къ новой средѣ культурныхъ цѣнностей, созданныхъ въ другихъ областяхъ. Теперь, когда археологія и лингвистика устанавливаютъ направленіе торговыхъ путей по территоріи Восточной Европы даже для эпохи каменнаго вѣка, представленіе о самобытныхъ замкнутыхъ языческихъ культурахъ является уже достояніемъ исторіи науки. Если изученіе славянскаго язычества вскрыло въ немъ элементы не только финскихъ, но и иранскихъ религіозныхъ представленій и культа, то уже одинъ этотъ фактъ заставляетъ насъ апріорно предполагать и проникновеніе въ Восточную Европу христіанской проповѣди съ самыхъ отдаленныхъ временъ. Первенствующее значеніе въ этомъ процессѣ распространенія первыхъ сѣмянъ христіанства среди тогдашняго многоплеменнаго населенія Россіи должно было принадлежать христіанскимъ колоніямъ Черноморья.
Появленіе христіанства на берегахъ Чернаго моря въ апостольскую эпоху засвидѣтельствовано 1 посланіемъ ап. Петра (I, 1), а потому вѣроятнѣе всего относить распространеніе его на сѣверномъ берегу Понта къ первымъ вѣкамъ нашей эры. Агіографическіе памятники говорятъ о распространеніи христіанства по Черноморью задолго до Миланскаго эдикта. Легенда о проповѣди апостола Андрея описываетъ его путь черезъ Кавказъ въ Боспоръ (Керчь), Ѳеодосію и Херсонесъ. Легенда о св. Климентѣ, папѣ Римскомъ, приводитъ его въ Херсонъ, гдѣ онъ нашелъ 2000 христіанъ въ каменоломняхъ и гдѣ принялъ мученическую кончину отъ императора Траяна (98–117).
Житія св. епископовъ херсонскихъ передаютъ, что въ правленіе нечестиваго императора Діоклетіана іерусалимскій патріархъ Ермонъ, рукополагая и разсылая по всей странѣ епископовъ для обращенія невѣрующихъ въ христіанство, отправилъ двухъ епископовъ на сѣверный берегъ Чернаго моря: Василея въ Херсонесъ Таврическій и Ефрема въ Сирію. Послѣ мученической смерти Василея тотъ же патріархъ послалъ въ Херсонесъ трехъ новыхъ епископовъ, также принявшихъ мученическую кончину, а позднѣе — пятаго епископа, Эферія, который былъ занесенъ въ устье Днѣпра, гдѣ и погибъ. Позднѣе, при Константинѣ Великомъ, христіанство въ Херсонесѣ было окончательно упрочено и Херсонесъ получилъ своего епископа Капитона, который тоже погибъ мученической смертью.
Большая литература о херсонскихъ житіяхъ не одинаково смотритъ на вопросъ о достовѣрности приведенныхъ данныхъ, но самый фактъ существованія въ Крыму христіанства уже въ III вѣкѣ является безспорнымъ, такъ какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ и археологическіе памятники. Боспорская эпитафія Евтропія изъ 304 года христіанской эры доказываетъ, что въ Керчи къ концу III вѣка должна была существовать христіанская община. На первомъ вселенскомъ соборѣ присутствовали Кадмъ, епископъ Боспора, Филиппъ, епископъ Херсона и Ѳеофилъ, митрополитъ Готѳіи, подписавшіеся подъ соборными постановленіями. Какъ показалъ проф. Васильевъ въ изслѣдованіи о Готахъ въ Крыму, упомянутая здѣсь готская митрополія находилась внѣ Крыма и должна быть отождествлена съ той скиѳской епископіей, глава которой, по свидѣтельству Евсевія Кесарійскаго, присутствовалъ на Никейскомъ соборѣ.
Однако и въ той части Готовъ, которая поселилась къ Крыму, христіанство было распространено, и въ томъ же IV вѣкѣ была основана готская Таврическая епископія, первымъ, достовѣрно извѣстнымъ, представителемъ которой былъ еп. Унила, посвященный въ этотъ санъ патріархомъ Константинопольскимъ, св. Іоанномъ Златоустомъ. Свидѣтельства церковныхъ историковъ Созомена и Филосторгія вмѣстѣ со словами св. Василія Великаго даютъ право предполагать, что начало распространенія христіанства среди Готовъ относится къ серединѣ III вѣка, причемъ проповѣдниками оказались каппадокійскіе плѣнники, захваченные Готами во время ихъ морскихъ набѣговъ на Малую Азію. Въ то же время христіанство распространилось и въ другихъ пунктахъ сѣвернаго Черноморья. Существованіе христіанства въ Скиѳіи (или у Сарматовъ) подтверждаетъ рядъ отцовъ церкви: Тертулліанъ, Аѳанасій Александрійскій, Іоаннъ Златоустъ, блаж. Іеронимъ. Объ этомъ же говоритъ и Евсевій Кесарійскій (†340), приписывая заслугу просвѣщенія Скиѳіи св. апостолу Андрею.
Въ серединѣ IV вѣка Готы представляли могущественную организацію, объединившую множество славянскихъ, финскихъ, литовскихъ и сарматскихъ племенъ восточной Европы въ сложный хозяйственный организмъ съ развитой внутренней торговлей, шедшей по рѣчнымъ путямъ, и съ живыми связями съ греко-римскимъ міромъ. Начавъ въ I-мъ вѣкѣ нашей эры переселеніе съ береговъ Балтики, они во второй половинѣ II-го вѣка приблизились къ Черному морю, а въ началѣ III-го столѣтія вступили въ упорную борьбу съ Римомъ, заставившую Римлянъ, послѣ пятидесятилѣтней борьбы, уступить Готамъ лѣвый берегъ Дуная.
Середина IV вѣка была моментомъ наибольшаго могущества готскаго государства. Языки Финновъ, Литовцевъ и Славянъ сохранили большое количество словъ, заимствованныхъ изъ готскаго языка. Отъ Готовъ Славяне заимствовали нѣкоторое оружіе: мечъ — meki, шлемъ — helms; броню, щитъ; научились воевать въ порядкѣ, цѣлымъ народомъ (полкъ — volk), подъ знаменами (хоругвь — hrunga) князя — (konung). Отъ готовъ славяне узнали про деньги (пѣнязи — pfenning); готское слово skat (schatz) стало означать скотъ, имущество (Браунъ. Заимствованныя слова. «Бесѣда», III, Берлинъ). При условіи столь живыхъ и непосредственныхъ связей славянства съ Готами, фактъ существованія готскихъ епископій въ Крыму и въ Скиѳіи заставляетъ предполагать неизбѣжность проникновенія христіанской проповѣди въ дебри Восточной Европы уже въ ту эпоху.
Великое переселеніе восточныхъ кочевниковъ, начатое Гуннами во второй половинѣ IV вѣка, надолго оторвало восточное славянство отъ христіанизированнаго греческо-иранско-готскаго Черноморья. В теченіе долгаго промежутка времени, отъ V до IX вѣка, края, находящіеся къ сѣверу отъ черноморскихъ степей, живутъ въ полной исторической мглѣ. Византійскіе и западные источники молчатъ о нихъ, открывая широкое поле догадкамъ о путяхъ славянской колонизаціи въ финскія и литовскія земли на основаніи данныхъ географической номенклатуры и архелогическихъ остатковъ. И все же, если въ теченіе этого періода внутренняго броженія Восточной Европы не потерялось значеніе ея великихъ торговыхъ путей, нужно предполагать, что и тогда не могло не проникать въ ея нѣдра вліяніе культурнаго юга: съ одной стороны — отъ христіанизировавшихся крайнихъ волнъ славянства, осѣдавшихъ на Балканахъ, съ другой — черезъ черноморскую тюрско-финскую среду, волей-неволей втягивающуюся въ орбиту вліянія христіанской культуры.
Отдѣльные случайные факты, ставшіе намъ извѣстными несмотря на чрезвычайную скудость историческихъ источниковъ, относящихся къ періоду отъ VII до IX вѣка, позволяютъ утверждать, что въ теченіе всего этого времени Византія не оставляла заботъ о христіанизаціи сѣвернаго Черноморья. Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда вниманіе хрониста привлекали политическія событія на этой далекой окраинѣ, мы почти всегда находимъ указанія на миссіонерскую дѣятельность константинопольской Церкви въ этихъ краяхъ. Основываются новыя епископіи, идутъ въ черноморскія степи византійскіе миссіонеры, привлекаются въ лоно Христовой вѣры князьки германскихъ и аланскихъ племенъ и ханы кочевыхъ тюркскихъ ордъ.
Довольно много данныхъ объ этомъ сохранилось изъ VI вѣка. Въ 518 году ѣдетъ въ Фанагорію на Таманскомъ полуостровѣ епископъ. Въ началѣ правленія Юстиніана крестился въ Царьградѣ съ двѣнадцатью родственниками и со своей свитой король Геруловъ, жившихъ въ сѣверо-восточномъ углу Черноморья. Въ то же время принялъ крещеніе князь гуннской орды, кочевавшей вблизи Боспора, Горда (или Гродъ), павшій впослѣдствіи какъ жертва языческой реакціи. При Юстиніанѣ же распространилось христіанство на сѣверномъ Кавказѣ, въ Абхазіи. Въ 21 годъ правленія Юстиніана (547–548) получили своего епископа Готы-Трапезиты, жившіе на восточномъ берегу Азовскаго моря, которые, по свидѣтельству Прокопія, въ его время «съ простодушіемъ и великимъ спокойствіемъ почитали христіанскую вѣру». Когда (со второй половины VI вѣка) стала распространяться на западъ турко-хазарская орда, объединившая впослѣдствіи подъ своею властью весь югъ Восточной Европы, отъ Карпатъ до Урала и Каспія и отъ Крымскаго побережья до лѣсной полосы средней Россіи, Византія должна была посвятить серьезное вниманіе вопросу распространенія христіанства въ Хазаріи и привлеченія ея подъ свое вліяніе, тѣмъ болѣе, что въ Хазаріи Константинополь имѣлъ естественнаго союзника въ своей непрерывной борьбѣ съ могущественными врагами на востокѣ, сначала съ Персіей, а затѣмъ въ особенности съ Арабами.
И дѣйствительно, Византія привлекаетъ Хазаръ къ политическому и военному союзу, устанавливаетъ дружественныя связи съ хазарскимъ дворомъ; Императоры, становясь жертвой дворцовыхъ революцій, находятъ спасеніе въ Хазаріи; Юстиніанъ II и Константинъ V были женаты на хазарскихъ принцессахъ; греческіе инженеры посылались въ Хазарію для постройки крѣпостей. Параллельно съ политическими связями распространяется въ Хазаріи и христіанство. Идетъ оно и непосредственно изъ Царьграда, приводя ко Христу отдѣльныя кочевыя орды: такъ въ началѣ VII вѣка перешелъ въ христіанство вождь племени Оногуровъ, создавшихъ кратковременное государственное образованіе въ черноморскихъ степяхъ и получившихъ отъ Византіи особаго епископа. Проникаетъ христіанство на сѣверъ черезъ Кавказскій хребетъ изъ Грузіи, откуда бѣжали въ Хазарію христіане, спасаясь отъ вторженій мусульманъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ грузинское житіе св. Або. Распространяется Христова вѣра и изъ древнихъ крымскихъ и сѣверо-кавказскихъ епископій, вошедшихъ въ составъ хазарскаго государства, которыя, согласно показаніямъ списковъ епископій, подчиненныхъ Константинопольскому патріархату, т. наз. Нотицій, растутъ числомъ и повышаются значеніемъ, получая рангъ архіепископій.
Одинъ изъ этихъ списковъ, Нотиція де-Боора, отражаетъ картину максимальнаго напряженія христіанизаціи Хазаріи въ серединѣ VIII вѣка. Въ этой Нотиціи готская епископія въ Крыму представлена реорганизованной въ обширную епархію съ семью подчиненными епископіями, охватывающими всю территорію хазарскаго государства. Прибавивъ къ этимъ 8 епископіямъ четыре прежнихъ архіепископскихъ каѳедры на сѣверо-восточномъ побережьи Чернаго моря, мы получаемъ довольно густую сѣть церковныхъ организацій, распредѣленныхъ равномѣрно въ разныхъ углахъ Хазаріи: Доросъ на готскомъ побережьи Крыма, Херсонъ въ центрѣ греческаго побережья, Босфоръ на Керченскомъ полуостровѣ, Фулы въ сѣверной части Крыма, Никопсисъ въ Зихіи при устьѣ Кубани, Таматарха на Тамани, Севастополь вблизи Сухума, Гунны на нижнемъ Дону, Оногуры въ восточномъ Приазовьѣ, Итиль — хазарская столица на нижней Волгѣ, Хвалисы на сѣверо-западномъ побережьи Каспія и Тарку въ южной части Хазаріи до Кавказскаго хребта.
Будемъ ли мы считать эти данныя отвѣчающими исторической дѣйствительности, или предположимъ въ приведенномъ перечисленіи каѳедръ лишь неосуществленный проэктъ организаціи обширной хазарской епархіи, нельзя не видѣть въ немъ свидѣтельства о сильномъ распространеніи христіанства въ Хазаріи въ серединѣ VIII столѣтія. Этотъ фактъ соотвѣтствуетъ исторической обстановкѣ. Именно середина VIII-го вѣка была періодомъ наиболѣе дружественныхъ византійско-хазарскихъ отношеній, обусловленныхъ военнымъ союзомъ противъ Арабовъ и закрѣпленныхъ бракомъ императора Константина V съ хазарской принцессой.
Какъ разъ въ это время въ Хазаріи шла сильнѣйшая религіозная борьба за преобладаніе въ государствѣ, между представителями христіанства, ислама и іудейства, о чемъ свидѣтельствуютъ еврейско-хазарскіе и арабскіе источники. Побѣда осталась за іудействомъ, принятіе котораго, м. б., представлялось хазарскому царю лучшимъ средствомъ для обезпеченія Хазаріи отъ доминирующаго политическаго вліянія Византіи или калифата въ случаѣ, если бы Хазарія приняла христіанство или исламъ. Во всякомъ случаѣ, готская епархія въ Хазаріи не осуществилась. Позднѣйшія Нотиціи не упоминаютъ хазарскихъ епископій, и св. Іоаннъ Готѳскій, прибывшій въ Доросъ въ 759 году, являлся лишь епископомъ Крымской Готѳіи, а не главой всей хазарской церкви.
Но христіанство въ Хазаріи удержалось, и при томъ не только въ древнихъ городахъ на Черноморьи, но и въ центральныхъ областяхъ, гдѣ, по словамъ житія св. Або, во многихъ городахъ и селахъ христіане безъ помѣхи служили Христу. Даже въ X вѣкѣ, когда отношенія Хазаріи и Византіи настолько обострились, что въ Хазаріи дошло до открытыхъ гоненій на христіанъ, по словамъ Масули, въ хазарской столицѣ христіане имѣли такое же число своихъ судей, какъ евреи и мусульмане, а по словамъ другого современника, Ибнъ-Хаукаля, въ другой хазарской столицѣ, Семендерѣ на сѣверо-западномъ Каспіи христіане имѣли свои церкви рядомъ съ еврейскими синагогами и мусульманскими мечетями. Паннонскія житія славянскихъ апостоловъ свидѣтельствуютъ, что въ серединѣ IX вѣка самъ іудейскій хазарскій дворъ приглашалъ изъ Византіи лучшихъ богослововъ для религіозныхъ диспутовъ съ евреями и мусульманами.
Могла ли христіанская проповѣдь изъ этихъ христіанскихъ центровъ Хазаріи проникать въ славянскія области, къ Полянамъ, Сѣверянамъ и Вятичамъ, которые, по лѣтописной традиціи, передъ приходомъ въ Кіевъ первой варяжской дружины платили Хазарамъ дань «по бѣлой вѣверицѣ отъ дыма», и къ Радимичамъ, платившимъ Хазарамъ дань «по щьлягу»? Ни историческихъ свидѣтельствъ, ни датированныхъ христіанскихъ погребеній изъ этого періода въ славянскихъ областяхъ Восточной Европы не сохранилось. Но связи этихъ земель съ христіанскими центрами, несомнѣнно, существовали, а слѣдовательно, было и знакомство съ христіанствомъ.
Мы упоминали уже, что преданіе о Кіѣ возводитъ давность связей Кіева съ Царьградомъ къ легендарной древности. Съ другой стороны, должны были приходить въ Кіевъ — въ то время [на его месте был] большой хазарскій городъ Самбатъ, гдѣ находилась усадьба хазарскаго намѣстника-пашенга (Пасынге) — купцы Греки, Готы и Армяне изъ хазарскихъ черноморскихъ городовъ, а можетъ быть, были и такіе, которые оставались въ Кіевѣ и на постоянное жительство, пользуясь всѣми привилегіями, предоставлявшимися христіанскимъ купцамъ въ другихъ хазарскихъ городахъ. Если это было, то могла существовать и христіанская община. Во всякомъ случаѣ, уже при самомъ основаніи русскаго государства въ Кіевѣ жили какіе-то люди, ведшіе записи о выдающихся событіяхъ того времени: только такого происхожденія могли быть тѣ короткія, отрывочныя извѣстія, внесенныя въ Начальную лѣтопись, которыя не стоятъ въ связи съ главнымъ разсказомъ. Таковы, напримѣръ, замѣтки объ убійствѣ ничѣмъ не знаменитаго Аскольдова сына, о войнѣ Аскольда и Дира съ Полочанами или о погребеніи Дира «за святою Ориною». На какомъ языкѣ велись эти записки, и какими буквами, мы не знаемъ (на греческомъ, на варяжскомъ, или м. б. по-славянски, армянскими, еврейскими, готскими или руническими буквами). Но такъ или иначе, такія записи должны были существовать, и нельзя не поставить въ связь съ этимъ то Евангеліе и Псалтирь «роушькими писмены писано», которое въ 861 году нашелъ въ Херсонѣ св. Кириллъ во время своей хазарской миссіи.
Рѣшающее значеніе въ дѣлѣ христіанизаціи Восточной Европы имѣлъ тотъ могущественный процессъ восточной норманской колонизаціи, который привелъ къ образованію ряда независимыхъ, особыхъ «русскихъ» княжествъ, постепенно, втеченіе IX–X вѣков объединившихся въ Русское Новгородско-Кіевское государство. Когда широкое развитіе арабской торговли въ VII–VIII вѣках распространило сѣть своихъ путей черезъ дѣвственные лѣса Восточной Европы до береговъ Балтійскаго моря и Сѣвернаго Ледовитаго океана (о чемъ свидѣтельствуютъ клады арабскихъ монетъ, находимые въ этихъ краяхъ), эта торговля привлекла Нормановъ на рѣки, ведшія на Волгу и къ берегамъ Каспія, гдѣ въ хазарскихъ городахъ создались постоянныя международныя ярмарки. Проникая по этимъ рѣкамъ вглубь литовскихъ, славянскихъ и финскихъ земель, варяжскія дружины основывали тамъ свои крѣпости — факторіи, иногда исчезавшія въ борьбѣ съ мѣстнымъ населеніемъ, а иногда превращавшіяся въ центры самостоятельныхъ государственныхъ образованій.
Когда въ концѣ VIII вѣка стремленіе къ открытію новыхъ рынковъ и надежда на возможность грабежа богатыхъ и культурныхъ областей привлекли Варяговъ на Черное море, въ глазахъ современниковъ они въ то время уже были Русью, живущей въ Восточной Европѣ. Въ 839 году послы народа «Росъ» въ Константинополѣ оказываются «шведскаго рода», но своего государя называютъ хазарскимъ титуломъ «хакана». Арабскій писатель Ибнъ-Хордадбехъ въ сочиненіи, составленонмъ до 846 года, говоря о путешествіяхъ русскихъ купцовъ къ Черному морю, указываетъ, что они живутъ въ землѣ Славянъ. Другіе восточные источники IX вѣка говорятъ о существованіи въ Восточной Европѣ трехъ независимыхъ русскихъ княжествъ и описываютъ какое-то сильное русское — норманское княжество, находящееся вблизи хазарскаго государства на островѣ, въ которомъ есть много основаній предполагать Таманскій полуостровъ, ставшій впослѣдствіи извѣстнымъ русскимъ Тмутороканскимъ княжествомъ.
Въ своемъ стремленіи къ богатому югу эта, осѣдавшая въ славянской и финской средѣ, норманская Русь приходила въ непосредственное соприкосновеніе съ христіанствомъ во всѣхъ конечныхъ пунктахъ ея путешествій. Въ хазарскихъ торговыхъ городахъ русскіе купцы подолгу жили бокъ о бокъ съ христіанами, имѣвшими тамъ свои церкви и своихъ судей. На Черноморьѣ Русь попадала въ исключительно христіанскую среду. Естественно, что при постоянности и интенсивности связей этой Руси съ христіанами она должна была непрерывно христіанизироваться. Это дѣлаетъ для насъ понятнымъ извѣстіе Ибнъ-Хордадбеха, который разсказываетъ, что, когда русскимъ купцамъ случается путешествовать иногда съ южнаго берега Каспія на верблюдахъ въ Багдадъ, «они требуютъ, чтобы ихъ тамъ считали христіанами и платятъ подать какъ таковые».
Два греческихъ источника изъ первой половины IX вѣка — житія св. Георгія Амастридскаго и св. Стефана Сурожскаго — описываютъ чудесное обращеніе русскихъ пиратскихъ дружинъ въ христіанство. Первое житіе разсказываетъ, что вскорѣ послѣ смерти св. Георгія, епископа города Амастриды (на малоазіатскомъ берегу Чернаго моря), который скончался въ самомъ началѣ IX вѣка, случилось нападеніе на городъ варваровъ — Руси, «народа, какъ всѣ знаютъ, жесточайшаго и дикаго, не показывающаго никакихъ слѣдовъ человѣколюбія». Начавъ грабежъ отъ Босфора, они опустошили все южное побережье Понта и дошли до отечества святого. Разоривъ городъ, Руссы проникли въ храмъ и стали раскапывать гробъ святого, расчитывая найти тамъ драгоцѣнности, но были поражены полнымъ параличемъ рукъ и ногъ. Пораженный чудомъ, вождь Руссовъ сталъ распрашивать Грековъ о причинѣ этого и, получивъ отвѣтъ о могуществѣ христіанскаго единаго Бога, освободилъ плѣнныхъ, принесъ въ жертву воскъ и елей и заключилъ съ христіанами союзъ дружбы. «Такъ одинъ только гробъ [святого] показалъ безуміе варваровъ, укротилъ многія убійства, обратилъ дичайшихъ волковъ въ кроткихъ ягнятъ и тѣхъ, которые чтили луга и горы, научилъ почитать Божіе и заботиться о храмахъ».
Житіе св. Стефана епископа Сурожскаго, умершаго въ концѣ VIII вѣка, описываетъ грабительскій походъ русскаго князя Бравалина (Бравалла — мѣсто въ Скандинавіи, гдѣ была знаменитая битва въ 770 г.), пришедшаго изъ Новгорода и опустошившаго крымское побережье отъ Корсуня до Керчи. Когда варвары, разграбивъ Сурожъ, стали грабить храмъ и покусились на драгоцѣнности, лежавшія на гробѣ святого, «въ тотъ часъ разболѣся князь — обратися лице его назадъ и лежа, источалъ пѣну». Пораженный видѣніемъ святого старца, который ударилъ его по лицу и грозилъ изломать его тѣло, князь приказалъ возвратить все награбленное, и просилъ крестить его, что и выполнилъ тогдашній сурожскій епископъ Филаретъ. Получивъ исцѣленіе, князь отпустилъ всѣхъ плѣнныхъ и остался еще недѣлю въ церкви. Давъ великій даръ св. Стефану, почтивъ городъ и горожанъ и священниковъ, онъ ушелъ во-свояси.
Резюмируя итоги большой научной литературы по изслѣдованію этихъ источниковъ, Н.Д. Полонская, авторъ прекрасной сводки по вопросу о христіанствѣ на Руси до Владимiра (въ Журн. Мин. Нар. Просв. въ 1917 г. IX) заключаетъ, что «въ житіяхъ Амастридскомъ и Сурожскомъ наука располагаетъ данными о столкновеніи Руси языческой съ христіанскимъ міромъ, относящимися къ до-рюриковой или до-аскольдовой порѣ, данными неясными, но представляющими немалую историческую цѣнность».
Начало второй половины IX вѣка въ исторіи византійскихъ отношеній съ Восточной Европой ознаменовалось событіемъ, положившимъ основаніе широкому и непрерывно усиливавшемуся проникновенію христіанства на Русь. Это была знаменитая осада Царьграда Русью лѣтомъ 860 года, описанная рядомъ современныхъ и позднѣйшихъ источниковъ и приписанная нашей лѣтописью кіевскимъ князьямъ Аскольду и Диру. Современникъ и свидѣтель событія, патріархъ Фотій, въ своемъ окружномъ посланіи восточнымъ епископамъ 866 года сообщаетъ, что нападавшіе на Константинополь Руссы, помирившись съ Греками, вступили съ ними въ союзъ и крестились. «И настолько разгорѣлась въ нихъ ревность къ вѣрѣ, что приняли епископа и пастыря и исполняютъ христіанскіе обычаи съ великимъ усердіемъ». Константинъ Порфирородный въ исторіи своего дѣда Василія Македонскаго сообщаетъ чудесныя обстоятельства этого крещенія (положеніе въ огонь Евангелія, которое осталось невредимымъ) и приписываетъ посылку епископа къ Руси Василію Македонскому и патріарху Игнатію.
Мы не имѣемъ возможности приводить всѣ позднѣйшіе варіанты этихъ показаній, ни, тѣмъ менѣе, пересматривать очень большую литературу по вопросу объ этомъ «первомъ крещеніи Руси», разборъ которой находится въ упомянутой статьѣ Н.Д. Полонской и въ моей статьѣ, напечатанной въ сербскомъ журналѣ «Богословлье» за 1929 год. Главные вопросы, связанные съ приведенными свидѣтельствами, сводятся къ тремъ. Когда произошло это крещеніе? было ли это лишь посылкой проповѣдника, или основаніемъ первой русской епископіи? Въ послѣднемъ случаѣ — гдѣ эта епископія была основана? Первый и второй вопросы рѣшаются легко. Крещеніе должно было имѣть мѣсто между 861 и 867 годами (предположительно въ 865–866, въ періодъ соправительства Михаила III и Василія Македонскаго) и должно разсматриваться какъ основаніе русской епископіи. Третій же вопросъ — о мѣстонахожденіи этой епископіи породилъ нѣсколько теорій и вызвалъ большую научную полемику.
Наиболѣе распространенное мнѣніе помѣщаетъ перваго русскаго епископа въ Кіевѣ, откуда, по свидѣтельству русской лѣтописи, былъ предпринятъ походъ Аскольда и Дира на Константинополь. Однако это предположеніе наталкивается на очень сильное возраженіе — традиція о крещеніи Аскольда и Дира послѣ ихъ славнаго похода не могла бы изгладиться въ кіевской христіанской общинѣ. Разъ лѣтописецъ-монахъ, пользовавшійся каждымъ поводомъ для проявленія своего религіознаго настроенія, не упоминаетъ о крещеніи Руси послѣ похода 860 года, очевидно, что этотъ фактъ происходилъ не въ Кіевѣ. Извѣстно что лѣтописецъ для своего сообщенія о походѣ 860 г. не имѣлъ никакихъ мѣстныхъ источниковъ, а весь разсказъ цѣликомъ заимствовалъ изъ хроники Амартола, ошибочно датировалъ его 866 годомъ, отнеся къ правленію Аскольда и Дира. Поэтому Голубинскій предположилъ, что нападеніе на Царьградъ 860 г. было предпринято не кіевской, а черноморской Русью, для которой и была основана епископія въ Матрахѣ-Тмуторокани.
Близко къ Голубинскому стоитъ Россейкинъ, видѣвшій въ упомянутомъ Фотіемъ епископѣ одного изъ греческихъ епископовъ на Черноморьѣ, подъ юрисдикцію котораго патріархъ могъ передать новоустроенную русскую церковь. Предлагались и сводныя гипотезы: ходила на Царьградъ и приняла крещеніе Кіевская Русь, но кромѣ Кіевской епископіи существовала и вторая — въ Тмуторокани (Грушевскій); нападала на Царьградъ и получила епископа Тмутороканская Русь, однако и въ Кіевѣ въ то время могли быть христіане, благодаря сношеніямъ съ Тмутороканью (Пархоменко). Но какую бы изъ этихъ гипотезъ мы ни приняли, фактъ основанія епископіи въ одномъ изъ большихъ русскихъ центровъ долженъ былъ имѣть выдающееся значеніе въ процессѣ христіанизаціи Восточной Европы. Это значеніе опредѣляется рядомъ обстоятельствъ, изъ которыхъ три имѣютъ первенствующую важность.
Во-первыхъ, это событіе совпало съ моментомъ образованія въ басейнѣ Ильменя, Волхова и Днѣпра новаго государственнаго организма — Новгородско-Кіевской Руси, которая подъ властью варяжской династіи Рюриковичей втеченіе ста лѣтъ объединила всѣ славянскія племена Восточной Европы. Какъ разъ во второй половинѣ IX вѣка варяжскія дружины съ сѣвера проникли въ среднее Приднѣпровье и, оттѣснивъ Хазаръ къ востоку, повернули торговую магистраль Россіи въ сторону Византіи.
Во-вторыхъ, именно въ это время Византія находилась въ періодѣ чрезвычайнаго подъема всѣхъ своихъ творческихъ силъ. Утрата восточныхъ областей, занятыхъ Арабами; образованіе въ сѣверной части Балкан самостоятельныхъ славянскихъ государствъ; созданіе на Западѣ имперіи Карла Великаго, ставившаго своей задачей осуществленіе всемірнаго Августинова Божьего Града и распространеніе политическаго вліянія объединеннаго германскаго міра и христіанскаго просвѣщенія среди Западныхъ и Южныхъ Славянъ; міродержавныя претензіи римскаго престола, получившаго въ лицѣ великаго папы Николая I выдающагося идеолога универсальной власти наслѣдниковъ св. Петра, — все это поставило передъ Восточнымъ Римомъ реальную опасность превратиться въ маленькое греческое государство. Приходилось быстро и точно опредѣлить границы политическаго вліянія обѣихъ имперій и сферы ихъ церковнаго и политическаго вліянія; выяснить и пересмотрѣть духовное богатство, которымъ располагала въ то время Византія; порвавъ связи съ Западомъ, охранить отъ его вліянія восточный міръ и возрожденнымъ блескомъ своей цивилизаціи привлечь къ себѣ молодые народы сѣверо-востока и объединить ихъ подъ своей властью въ церковномъ и культурномъ, а если можно, то и въ политическомъ единствѣ.
Возрожденной Византіи удалось осуществить всѣ эти задачи. Исключительныя требованія жизни родили исключительныя личности для ихъ выполненія. Въ періодъ наибольшаго напряженія этого вопроса, въ серединѣ IX вѣка, въ Византіи являются гигантскія фигуры новыхъ людей творческаго духа, широкихъ горизонтовъ и великой энергіи: кесарь Варда, императоръ Василій Македонянинъ, патріархъ Фотій и святые Солунскіе братья. Крещеніе Руси Фотіемъ и посылка къ нимъ епископа были однимъ изъ моментовъ въ широкомъ, планомѣрномъ миссіонерскомъ движеніи, долженствовавшемъ вовлечь въ культурный раіонъ Византіи молодые народы сѣверо-востока и прежде, всего, Славянство.
Въ-третьихъ, это событіе совпало съ началомъ просвѣтительной дѣятельности славянскихъ апостоловъ. Мы не принимаемъ гипотезы Ламанскаго, который считаетъ хазарскую миссію св. Кирилла — миссіей къ славянской Кіевской Руси, и въ епископѣ, посланномъ патріархомъ Фотіемъ, видитъ самого св. Кирилла. Но трудно возражать противъ утвержденія Ламанскаго, что такіе писатели-стилисты, какъ Иларіонъ, Іаковъ Мнихъ, Несторъ, Лука Жидята и др., не могли явиться въ первый вѣкъ христіанства и что появленіе ихъ является доказательствомъ длительнаго существованія христіанства въ Кіевѣ и знакомства мѣстной среды съ книжнымъ славянскимъ языкомъ. Въ концѣ IX и въ началѣ X вѣка, благодаря трудамъ учениковъ св. Кирилла и Меѳодія, на Балканахъ возникла богатая славянская литература, и нужно предполагать, что отсюда славянскія книги и славянскіе священники проникали на Востокъ — въ Кіевъ и другіе русскіе центры, гдѣ варяжскіе завоеватели чрезвычайно быстро сливались съ окружающей славянской средой. Этотъ фактъ быстрой ассимиляціи инороднаго элемента со славянскимъ населеніемъ засвидѣтельствовавъ лѣтописью уже для эпохи Олега, который въ 882 году пошелъ на югъ съ войскомъ, состоявшимъ изъ Варяговъ, Чюди, Словѣнъ, Мери и Кривичей, при чемъ, по занятіи Кіева «бѣша у него Варязи и Словѣни и прочи, прозвашася Русью».
Правда, и наличіе заимствованныхъ норманскихъ словъ въ русскомъ языкѣ, и норманскія имена русскихъ пословъ въ договорахъ Олега и Игоря съ Греками, и «русскія» имена днѣпровскихъ пороговъ у Порфиророднаго съ очевидностью указываютъ, что Варяги въ Россіи не сразу забывали свой языкъ, но съ другой стороны, несомнѣнно, эти Варяги уже въ первомъ поколѣніи должны были говорить по-славянски. Во всякомъ случаѣ, необходимо подчеркнуть, что въ лѣтописи нѣтъ намековъ на какія-нибудь стремленія Варяговъ къ сохраненію своихъ особыхъ норманскихъ традицій въ противовѣсъ славянскимъ. Если иногда первые князья защищаютъ язычество, то защищаемыми въ лѣтописи называются славянскіе, а не норманскіе боги. Поэтому, соглашаясь съ изслѣдователями, признававшими, что первые кіевскіе христіане были изъ Варяговъ («мнози бо бѣша Варязи христіяне»), нужно считать, что и среди нихъ христіанство распространялось преимущественно на славянскомъ языкѣ, чѣмъ только и можно объяснить полное отсутствіе въ Россіи варяжскихъ христіанскихъ памятниковъ. Наоборотъ, какъ на то указывалъ еще Иловайскій, вся наша древняя письменность — договоры, лѣтопись, богослужебныя книги — славянская.
Относительно эпохи Олега лѣтопись не содержитъ данныхъ о распространеніи христіанства. Договоръ съ Греками 911 г. не упоминаетъ о христіанахъ. Но съ другой стороны нѣтъ и указаній на отрицательное отношеніе Вѣщаго князя къ христіанству. Напротивъ, налаженныя мирныя отношенія съ Царьградомъ заставляютъ предполагать, что Олегъ относился терпимо къ христіанамъ. Поэтому намъ представляется вѣроятной догадка Ламанскаго, что Олегъ пользовался услугами грамотныхъ христіанъ, записывавшихъ его славныя дѣянія и участвовавшихъ въ составленіи договора. Можетъ быть, уже въ то время существовала въ Кіевѣ церковь св. Иліи, которая упомянута въ договорѣ Игоря. По мнѣнію Халанскаго, любопытную традицію о симпатіяхъ Олега къ христіанству сохранилъ славянскій переводъ Паралипоменона Зонары, утверждающій, что первое крещеніе Руси и чудо съ Евангеліемъ произошли «при Ользѣ», т. е. при Олегѣ.
Договоръ Руси съ Греками 944 года свидѣтельствуетъ, что христіане въ Кіевѣ при Игорѣ представляли уже многочисленную и вліятельную среду. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характеренъ тотъ фактъ, что русскіе христіане выступаютъ не только какъ равноправный элементъ, но стоятъ въ договорѣ на первомъ мѣстѣ. Такъ, въ концѣ договора опредѣляется, что если бы кто-нибудь со стороны Руси осмѣлился нарушить договоръ, то «елико ихъ крещенье приняли суть, пусть примутъ наказаніе отъ Бога Вседержителя и осужденіе на погибель въ сей вѣкъ и въ будущій, а некрещеные чтобы не имѣли помощи ни отъ Бога ни отъ Перуна, чтобы щиты ихъ не защищали, и пусть погибнутъ отъ мечей своихъ, отъ стрѣлъ и отъ другого оружія своего, и чтобъ были они рабами въ сей вѣкъ и въ будущій». Точно также христіане стоятъ на первомъ мѣстѣ въ статьѣ о бѣгломъ: «если бѣглеца не найдутъ, пусть присягаютъ наши христіане русскіе по вѣрѣ своей, а нехристіане — по закону своему». Наконецъ, заключительныя слова договора указываютъ, что среди представителей Руси, заключавшихъ договоръ, христіане стояли на первомъ мѣстѣ: «А мы, сколько насъ есть крещеныхъ, клялись церковью святого Иліи въ соборной церкви, при честномъ крестѣ и писаніи семъ, клялись беречь все, что тутъ написано, и ничего не нарушить. А кто нарушитъ это съ нашей стороны, князь ли или кто другой, крещеный ли или некрещеный, — чтобы не имѣли они помощь отъ Бога, чтобъ былъ тотъ рабомъ въ сей вѣкъ и въ будущій. И пусть будетъ закланъ своимъ оружіемъ. А некрещеная Русь пусть полагаетъ щиты свои и мечи... и иное оружіе и пусть клянется беречь все, про что написано въ договорѣ этомъ, отъ Игоря, отъ всѣхъ бояръ и отъ страны Русской».
Къ тому лѣтопись прибавляетъ, что русскіе послы вернулись въ Кіевъ вмѣстѣ съ греческими послами, которые должны были присутствовать при торжественной присягѣ князя и бояръ на договоръ. «На другой день позвалъ Игорь пословъ и пришелъ на холмъ, гдѣ стоялъ Перунъ, и положилъ оружіе свое, щиты и золото, и присягнулъ Игорь и люди его, сколько было поганой Руси. А крещеная Русь присягала въ церкви святого Иліи, что надъ ручьемъ. Это была соборная церковь, такъ какъ многіе Варяги были христіанами».
Я позволилъ себѣ цѣликомъ привести эти четыре цитаты изъ договора 944 года, представляющія драгоцѣнный матеріалъ для исторіи христіанства на Руси. Изъ нихъ мы видимъ, сколь многочисленны и вліятельны должны были быть христіане въ Кіевѣ при Игорѣ; что имъ поручалась дипломатическая задача составленія международныхъ договоровъ; что въ данномъ случаѣ говорится не о христіанахъ въ Кіевѣ вообще, но лишь о христіанахъ изъ высшаго круга — княжескихъ дружинникахъ, чья присяга считалась необходимой помимо присяги самого великаго князя и его языческой дружины; что эти многочисленные вліятельные христіане были Варягами: и наконецъ, что эти Варяги перевели греческій договоръ не на варяжскій, а на славянскій языкъ.
Послѣднее обстоятельство отнимаетъ большую долю интереса отъ спора, кѣмъ была построена упомянутая здѣсь церковь св. Иліи: Варягами, Готами, Греками или даже Хазарами. Въ серединѣ X вѣка она была Кіевской соборной церковью, гдѣ, очевидно, богослуженіе велось на славянскомъ языкѣ. Не останавливаясь на спорныхъ вопросахъ о мѣстонахожденіи этой церкви и на значеніи эпитета «соборная», упомянемъ лишь, что рядъ ученыхъ понимаетъ это слово какъ «приходская» и заключаетъ отсюда, что упоминаніе «приходской» церкви указываетъ, что существовали и церкви не-приходскія, т. е. домовыя. Однако, утверждая фактъ широкаго распространенія христіанства при Игорѣ, мы не видимъ основаній для предположенія Голубинскаго, Приселкова и нѣсколькихъ другихъ изслѣдователей, якобы самъ князь Игорь былъ въ душѣ христіаниномъ. Источники для этого не даютъ никакихъ данныхъ и, наоборотъ, подчеркиваютъ его вѣрность языческимъ традиціямъ.
Первымъ государемъ христіаниномъ въ Кіевѣ была св. княгиня Ольга, «какъ денница предъ солнцемъ и какъ заря предъ свѣтомъ, по выраженію лѣтописца, явившаяся предвѣстницей христіанства на Руси». У насъ нѣтъ никакихъ данныхъ полагать, якобы она была внутренней христіанкой уже при Игорѣ (Приселковъ), или что приняла крешеніе еще до брака (арх. Леонидъ). Наоборотъ, тризна на гробѣ мужа и страшная месть Древлянамъ противорѣчатъ ея христіанству въ то время и оправдываютъ характеристику Ламанскаго, видѣвшаго въ Ольгѣ хитрую и коварную Норманку съ нервами Брунгильды, лишь впослѣдствіи, вѣроятно подъ вліяніемъ кіевскихъ христіанъ, осознавшую свои злодѣйства и крестившуюся. Лѣтопись не раскрываетъ передъ нами душевнаго переворота, происшедшаго въ этой женщинѣ, «мудрѣйшей всѣхъ человѣкъ». Но съ другой стороны нѣтъ основаній считать принятіе христіанства Ольгой и результатомъ чистаго политическаго расчета. Если даже при ея сынѣ языческій элементъ былъ сильнѣе христіанскаго, тѣмъ менѣе можно приписывать христіанамъ рѣшающій вѣсъ для предшествующей эпохи. Въ религіозномъ сознаніи современниковъ Ольга явилась «немощнымъ сосудомъ женскимъ», которымъ Господь благоизволилъ «просвѣщенія начатки сотворити,.. въ посрамленіе мужей жестокосердыхъ».
По свидѣтельству лѣтописи Ольга приняла христіанство въ Константинополѣ въ 955 году, причемъ воспріемникомъ былъ самъ Императоръ Константинъ Порфирогенитъ, а крестилъ патріархъ. Приведенная дата не точна. Книга о церемоніяхъ византійскаго двора описываетъ два пріема Императоромъ русской княгини Ольги: въ среду 9 сентября и въ воскресенье 18 ноября. Эти числа согласовались съ днями въ 957 году. Первое описаніе представляетъ намъ торжественные пріемы Ольги и ея свиты въ большомъ залѣ Магнавры и въ залѣ Юстиніана Ринотмета и интимнаго пріема въ средѣ царской семьи во внутреннихъ покояхъ, гдѣ «княгиня бесѣдовала съ царемъ, о чемъ желала»; называетъ покои, отведенные княгинѣ для отдыха, — роскошный, украшенный мозаиками Кенургій; передаетъ ритуалъ торжественнаго пира въ залѣ Юстиніана, гдѣ обѣдала княгиня въ средѣ царской семьи, и въ Золотой палатѣ, гдѣ обѣдала свита Ольги съ ея племянникомъ (анепсіемъ); перичисляетъ составъ русскаго посольства — 108 человѣкъ, не считая людей Святослава, число которыхъ не указано, и приводитъ суммы денежныхъ подарковъ каждому члену посольства, представлявшихъ (какъ это показалъ Айналовъ въ своемъ изслѣдованіи о пріемахъ русскихъ князей въ Цариградѣ) «мѣсячное» содержаніе Русскихъ въ Константинополѣ, согласно договорамъ Олега и Игоря. Въ числѣ свиты упомянутъ здѣсь и священникъ Григорій, присутствіе, котораго было бы трудно объяснимо, если бы княгиня была язычницей. Другое описаніе говоритъ объ обѣдѣ въ честь княгини, причемъ Императоръ обѣдалъ съ посольствомъ въ Золотой палатѣ, а Ольга съ Императрицей и царской семьей — въ роскошномъ Пентакувукліи св. Павла. При этомъ снова перечисляются дары, въ меньшемъ размѣрѣ, выданные княгинѣ и 106 членамъ ея свиты. Однако въ этихъ сообщеніяхъ нигдѣ нѣтъ упоминаній о принятіи Ольгой крещенія въ Царьградѣ.
Поэтому рядъ ученыхъ заподозрѣлъ правильность лѣтописной традиціи и предположилъ, что княгиня Ольга крестилась въ Кіевѣ до поѣздки въ Византію (по мнѣнію Пархоменка, послѣ поѣздки), съ чѣмъ якобы согласуются слова Іакова Мниха, что Ольга прожила христіанкой 15 лѣтъ, а умерла въ 969 году. Приведенный аргументъ не можетъ имѣть никакого значенія, такъ какъ во-первыхъ, Іаковъ Мнихъ не былъ современникомъ Ольги, во-вторыхъ — онъ не притязалъ дать точную хронологію, а въ-третьихъ — сама лѣтописная хронологія не вполнѣ точна. Неупоминаніе Константиномъ Порфиророднымъ крещенія Ольги также не можетъ служить аргументомъ, такъ какъ Книга о церемоніяхъ является придворнымъ уставомъ, который не имѣлъ никакихъ основаній говорить о крещеніи русской княгини.
Съ другой же стороны, имѣются свидѣтельства, подтверждающія лѣтописное извѣстіе о крещеніи въ Царьградѣ. Во-первыхъ, о крещеніи Ольги въ Царьградѣ и о полученіи богатыхъ даровъ говорилъ тотъ несохранившійся источникъ X вѣка, которымъ для эпохи Константина Порфиророднаго воспользовался писатель середины XI вѣка, Іоаннъ Скилица, сообщающій, что княгиня Ольга пріѣзжала въ Царьградъ и крещеная показала щедрость святымъ церквамъ и одаренная Императоромъ возвратилась домой. Точность этого показанія подтверждается словами архіепископа Новгородскаго Антонія, видѣвшаго въ ризницѣ царьградской церкви св. Софіи «блюдо велико злато Ольгы русской, когда взяла дань, ходивши Царюгороду», украшенное жемчугомъ и имѣвшее въ серединѣ изображеніе Іисуса Христа на драгоцѣнномъ камнѣ, употреблявшееся во время церковныхъ службъ. Объ этомъ блюдѣ упоминаетъ и Книга о церемоніяхъ, указывая, что во время обѣда княгинѣ было поднесено золотое блюдо, украшенное драгоцѣнными камнями, съ 500 миліарисіями. Кромѣ этой византійской традиціи X вѣка, о крещеніи княгини Ольги въ Царьградѣ свидѣтельствуетъ и современный западный источникъ: продолжатель хроники Регинона, повторенный другими хронистами.
Это показаніе чрезвычайно интересно. Въ немъ разсказывается о приходѣ къ императору Оттону въ 958 году пословъ отъ русской княгини Елены, незадолго до того крестившейся въ Константинополѣ при императорѣ Романѣ, и просившей прислать на Русь епископа для распространенія Христовой вѣры среди язычниковъ; о поѣздкѣ въ Россію епископа Адальберта и о его возвращеніи въ 961 году ввиду того, что Русскіе его обманули: спутники его были перебиты, а самъ онъ насилу убѣжалъ. Научная критика признаетъ это извѣстіе безусловно истиннымъ и расходится только въ толкованіи причинъ, побудившихъ княгиню Ольгу обратиться къ западной церкви съ просьбой о присылкѣ епископа.
Позднѣйшіе источники говорятъ о трудахъ св. княгини по распространенію христіанства на Руси. Черноризецъ Іаковъ утверждаетъ, что по возвращеніи изъ Царьграда Ольга «требища сокруши». По словамъ Степенной книги «Ольга обтекала грады и веси по всей землѣ Русской, проповѣдуя Евангеліе, яко истинная ученица Христа и соревнительница апостоловъ», тогда «многіе, дивясь о глаголѣхъ ея, ихъ же николиже прежде слышаша, любезно принимали отъ устъ ея слово Божіе и крестились». Іоакимовская лѣтопись приписываетъ Ольгѣ построеніе храма св. Софіи въ Кіевѣ; по традиціи, ею построены храмы Благовѣщенія въ Витебскѣ и св. Троицы въ Псковѣ.
Съ другой стороны, лѣтопись не говоритъ о распространеніи христіанства при Ольгѣ, а въ одномъ мѣстѣ замѣчаетъ, что она держала пресвитера втайнѣ. Поэтому рядъ ученыхъ — Голубинскій, Иловайскій, Грушевскій, Пархоменко и др. считаютъ крещеніе Ольги личнымъ дѣломъ и въ «сокрушеніи идоловъ» видятъ уничтоженіе идоловъ лишь во внутреннихъ покояхъ Ольги. Вѣроятно, истина стоитъ посрединѣ: въ Царьградѣ Ольга выступаетъ какъ «гегемонъ и архонтисса» (въ оглавленіи ко второй книгѣ Устава о церемоніяхъ); у Оттона русскіе послы говорятъ отъ ея имени. Но послѣ ухода отъ дѣлъ правленія, при Святославѣ, христіанство должно было стать личнымъ дѣломъ старой княгини. Впрочемъ, и тогда Ольга не скрывала своей вѣры: похоронили ее какъ христіанку. — «Заповѣдала Ольга не творити трызны надъ собою, бѣ бо имущи презвутеръ, сей похорони блаженную Ольгу».
О положеніи христіанства при Святославѣ лѣтопись почти начего не сообщаетъ, кромѣ его отказа на убѣжденія матери о перемѣнѣ вѣры и указанія, что «аще бо кто хотяше волею креститися, не браняху, но ругахуся тому». Трудно изъ этихъ словъ дѣлать выводъ о серьезной языческой реакціи, или, наоборотъ, о покровительственномъ отношеніи власти къ христіанамъ. И все же, трудно не согласиться съ Малышевскимъ и Приселковымъ, что походы въ христіанскую Болгарію должны были содѣйствовать распространенію христіанства на Руси, а, вѣроятно, содѣйствовало этому, какъ полагалъ Пархоменко, и завоеваніе восточнаго Черноморья.
Повидимому, христіанство распространялось и при сынѣ Святослава, Ярополкѣ, о расположеніи котораго къ христіанству сохранилось нѣсколько туманныхъ, но очень любопытныхъ свидѣтельствъ. Іоакимовская лѣтопись говоритъ о немъ: «бѣ мужъ кроткій и милостивый ко всѣмъ, любяше христіанъ; и аще самъ не крестился народа ради, то никому не претяше». Другіе источники, наиболѣе подробно изслѣдованные Коробко и въ послѣднее время Баумгартеномъ, говорятъ о сношеніяхъ Ярополка съ западною церковью. Кведлинбургская хроника разсказываетъ о приходѣ къ Оттону пословъ Ярополка въ 973 году; компиляторъ хроники Адемара передаетъ о крещеніи Руси западными миссіонерами, въ связи съ чѣмъ приводятъ извѣстіе въ житіи св. Ромуальда (написано 1040) о крещеніи Руси.
На Руси также сохранилась традиція о связи Ярополка съ Западомъ: Никоновская лѣтопись говоритъ о приходѣ въ Кіевъ папскихъ пословъ въ 979 году (м. б. дата не точна). О томъ, что западная церковь интересовалась въ то время вопросомъ христіанизаціи Руси, свидѣтельствуетъ и грамота папы Іоанна XIII чешскому государю Болеславу II объ открытіи второй епископіи и второго женскаго монастыря въ Чехіи — тамъ упомянуты болгарскіе и русскіе христіане.
Нѣтъ основаній сомнѣваться въ справедливости этихъ извѣстій о связяхъ Руси съ Западомъ при Ярополкѣ. Съ одной стороны, они стоятъ въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ широкимъ миссіонерскимъ движеніемъ, которое западная церковь вела въ сѣверо-восточной Европѣ во второй половинѣ X вѣка. Послѣ крещенія Чехіи, при Оттонѣ I интенсивно распространяется христіанство среди балтійскихъ Славянъ, гдѣ основанъ цѣлый рядъ епископій: въ Ольденбургѣ въ 942, въ Гавельбергѣ въ 948, въ Браниборѣ въ 949, и наконецъ — архіепископія въ Магдебургѣ въ 968 году. Въ 966 году крестился польскій князь Мѣшко, и съ разрѣшенія Императора основалъ епископію въ Познани. Въ 973 году основана Пражская епископія въ Чехіи. Въ то же время распространяется христіанство въ Венгріи, гдѣ въ 985 году крестился князь Гейза. Въ 974 г. крестился въ Даніи Гаральдъ Синезубъ, въ 966 году Олафъ Тригвесонъ норвежскій, въ 1008 — Олафъ III шведскій.
Трудно предположить, чтобы сильное Русское государство могло остаться внѣ интересовъ и попеченія западной церкви, столь планомѣрно трудившейся надъ собираніемъ всѣхъ европейскихъ народовъ въ единый Градъ Божій подъ верховной властью Римскаго престола. Съ другой стороны, послѣ смерти Святослава наступилъ замѣтный отрывъ Руси отъ Византіи, причемъ это объясняется не только внѣшними препятствіями — печенѣжской опасностью, все реальное значеніе которой показала Руси смерть князя-богатыря на днѣпровскихъ порогахъ — но и внутренними причинами, явившимися слѣдствіемъ балканскихъ походовъ Святослава. Византія не могла забыть угрозъ русскаго князя изгнать Грековъ въ Малую Азію. Антивизантійскіе элементы въ Болгаріи, примкнувшіе къ Святославу, должны были стараться внушить Русскимъ непріязненное отношеніе къ «льстивымъ» Грекамъ, стремившимся къ порабощенію славянства. Въ особенности это настроеніе должно было подняться на Руси, когда послѣ паденія болгарскаго царства въ 972 году и обращенія его въ византійскую провинцію, нѣкоторые болгарскіе книжники ушли на Русь, спасаясь отъ чужеземнаго ига.
Этотъ притокъ болгарскаго просвѣщенія наряду съ мѣстными христіанскими элементами и западными миссіонерами явился третьимъ факторомъ христіанизаціи Руси при Ярополкѣ. По мнѣнію Голубинскаго, не погибни Ярополкъ такъ рано, — вѣроятно онъ, а не св. Владимiръ, сталъ бы крестителемъ Руси. Во всякомъ случаѣ, традиція о христіанскихъ симпатіяхъ Ярополка въ Кіевѣ сохранилась. Ярославъ Мудрый въ 1044 году вырылъ кости Ярополка и его брата Олега, окрестилъ ихъ и положилъ въ церкви Богородицы.
Вопросъ о языческой реакціи при Владимiрѣ вызывалъ различныя толкованія. По гипотезѣ Полонской, прекрасной статьей которой по вопросу о христіанствѣ до Владимiра мы въ настоящемъ обзорѣ много разъ пользовались, эта реакція явилась результатомъ побѣды варяжско-дружиннаго языческаго элемента надъ земской христіанской партіей, получившей передъ тѣмъ временное преобладаніе. Мы не находимъ въ источникахъ подтвержденія этой концепціи, подводящей подъ религіозную борьбу на Руси національно-соціальный фундаментъ. Наоборотъ, какъ извѣстно, жертвами этой реакціи явились христіанскіе мученики Варяги. Если нужно въ данномъ вопросѣ принимать во вниманіе національный факторъ, то не вѣроятнѣе ли предположить обратное: что въ противовѣсъ партіи, склонявшейся къ вліянію иноземнаго западнаго элемента, Владимiръ опирался на славянскіе языческіе круги — вѣдь воздвигнуты были идолы не норманскихъ, а славянскихъ боговъ.
Не естественнѣе ли поставить языческую реакцію на Руси въ связь съ той могущественной волной языческой реакціи, которая именно въ это время разлилась по землямъ балтійскихъ Славянъ, когда тамъ, послѣ погибели Оттона II въ Италіи въ 983 году, были растерзаны всѣ нѣмецкіе священники, разорены всѣ церкви и уничтожены всѣ слѣды христіанства, и съ анархіей, явившейся въ концѣ X вѣка въ Чехіи послѣ первыхъ христіанскихъ князей объединителей... Вѣроятно, эта борьба съ вліяніемъ Запада, вмѣстѣ съ воспоминаніями о войнѣ Владиміра на Востокѣ съ мусульманами — камскими Болгарами и съ традиціей о преодолѣніи еврейско-хазарскаго вліянія въ Тмуторокани, создала канву для легенды о испытаніи вѣръ, если это, дѣйствительно, легенда.
В.А. Мошинъ
Источник: Владимірскій Сборникъ. Въ память 950-лѣтія Крещенія Руси. 988–1938. — Бѣлградъ, Типографія «Меркуръ», 1938. — С. 1–18.
Справка об авторе
Владимир Алексеевич Мошин (9.10.1894, Санкт-Петербург — 3.2.1987, Скопье, Югославия) — русский историк и филолог, протоиерей.
Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского Императорского университета, но добровольцем ушел на фронт Первой мировой войны. Награждён Георгиевской медалью и произведен в прапорщики.
Пытался продолжить образование на историко-филологическом факультете Тифлисского университета и на историко-филологическом факультете Киевского университета, в Киевском археологическом институте.
Вступил в Добровольческую армию. После эвакуации из Крыма вместе с женой О.Я. Кирьяновой прибыл в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Вначале работал школьным учителем в городе Копривница.
В.А. Мошин является представителем молодого поколения ученых белградского круга. Они доучивались уже в изгнании, досдавали экзамены в Русском научном институте. Их профессорами были Ф.В. Тарановский, Е.В. Спекторский, А.Л. Погодин. Мошин поработал во всех республиках Югославии: Сербии, Хорватии, Македонии.
В 1930-е годы Мошин несколько раз приезжал на Афон, где занималися описанием сербских рукописных собраний, хрисовулов, грамот сербского монастыря Хиландар. Во время Второй мировой войны жизнь русской общины Белграда сконцентрировалась вокруг храма Пресвятой Троицы. На богословских курсах преподавали ведущие профессора, богословы и философы. Священников не хватало, и В. А. Мошин в 1942 году был рукоположен в диаконы, а через полтора месяца и в священники.
Когда Красная Армия вошла в Белград, Мошина арестовали. Свою встречу с советским офицером Мошин описывал так: «Я ему все без утайки рассказал, что я священник русского храма Пресвятой Троицы. Он меня спросил, не сотрудничал ли я с немцами. Я сказал, что нет. После этого он пожелал мне всяческих успехов и не просто отпустил меня, а вывел меня за пределы комендатуры так, чтобы со мной ничего не случилось по дороге».
После войны Мошина направляют в столицу Хорватии Загреб, где он становится клириком русского храма. До глубокой старости он совмещал служение науке и служение Церкви. И хотя в социалистической Югославии это не поощрялось, Мошин не отступил от своих принципов.
Владимир Алексеевич принял активное участие в создании университета в Скопье, был директором Академии наук и искусств Хорватии.
В русской истории В.А. Мошин больше всего занимался двумя сюжетами: норманнской теорией и Хазарией.
+ + +
Ред. РИ. В.А. Мошин пишет: «Резюмируя итоги большой научной литературы по изслѣдованію этихъ источниковъ, Н.Д. Полонская, авторъ прекрасной сводки по вопросу о христіанствѣ на Руси до Владимiра (въ Журн. Мин. Нар. Просв. въ 1917 г. IX) заключаетъ, что наука располагаетъ данными о столкновеніи Руси языческой съ христіанскимъ міромъ, относящимися къ до-рюриковой или до-аскольдовой порѣ, данными неясными, но представляющими немалую историческую цѣнность». ‒ Таким образом, отмеченное в данной работе давнее проникновение норманнов на славянские земли до призвания Рюрика не означает, что они господствовали там и что Рюрик тоже был из варягов-норманнов, тем более что невозможно игнорировать высказанные историками многие аргументы в пользу происхождения Рюрика из варягов-славян, заселявших в то время южное балтийское побережье (согласно Иоакимовской летописми).
Ведь и сам В.А. Мошин признает: «Въ лѣтописи нѣтъ намековъ на какія-нибудь стремленія Варяговъ къ сохраненію своихъ особыхъ норманскихъ традицій въ противовѣсъ славянскимъ. Если иногда первые князья защищаютъ язычество, то защищаемыми въ лѣтописи называются славянскіе, а не норманскіе боги. Поэтому, соглашаясь съ изслѣдователями, признававшими, что первые кіевскіе христіане были изъ Варяговъ, нужно считать, что и среди нихъ христіанство распространялось преимущественно на славянскомъ языкѣ, чѣмъ только и можно объяснить полное отсутствіе въ Россіи варяжскихъ христіанскихъ памятниковъ. Наоборотъ, какъ на то указывалъ еще Иловайскій, вся наша древняя письменность — договоры, лѣтопись, богослужебныя книги — славянская».
Помощь сайту: Отправить 199 рублей
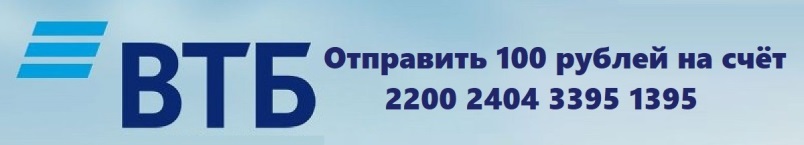
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — smtp.malorossia.toda