Россия Достоевского должна стать всемирной.
Что такое «русский мир», о котором на всех уровнях говорят сегодня часто?
Прежде всего, это — реальность, оплаченная кровью. «…Дело прочно, когда под ним струится кровь…» — так переделал Николай Некрасов старую максиму, что «кровь мучеников — семя христианства». За русский мир пролито уже столько своей и чужой (но по большей части всё же своей) крови — от Арсена Павлова и Михаила Толстых до сотен и сотен героев СВО, имена которых общество преимущественно не знает и не помнит. Такова ужасная несправедливость любой большой войны.
Крови пролито уже столько, что русский мир просто не имеет права оказаться фикцией, выдвинутым и забытым «проектом». Он обязан состояться, если кровь павших борцов и страдания жертв для нас что-то значат.
Итак, русский мир — это прежде всего наше непреложное обязательство.
Что же он такое по своему существу?
В своё время, в кажущиеся теперь уже такими далёкими 1990-е годы, концепция «русского мира» возникла из такого простого факта, что русские — крупнейший в мире разделённый народ. Административные границы советских республик в одночасье превратились в государственные, а сами русские оказались «иностранцами в 24 часа», как это точно назвал Александр Солженицын. Примерно 25 млн «русских по паспорту» оказались за границами РФ — как по остаточному принципу они оформились после распада Союза.
Никогда нельзя забывать, что причиной распада СССР было создание СССР — то есть формирование на месте единой и неделимой России, Российской империи, юридически рыхлой договорной федерации с правом выхода. Единство этой федерации, в которой Россия, напомню, платила налог 20% в пользу остальных, основывалось на диктатуре коммунистической партии. И, как только эта диктатура рухнула, ничто не помешало расчленить некогда единую страну строго по ленинско-сталинским границам — за небольшими исключениями вроде Приднестровья или Южной Осетии, где люди с оружием в руках отстаивали своё право не быть утащенными.
В одних случаях отделёнными русскими оказались жители земель, переданных советским нацреспубликам в рамках ленинской национальной политики, в других — переселенцы советской эпохи, военные и инженеры, учителя и врачи, рабочие и служащие. Рядом с этнически русскими «по паспорту» на развалинах Союза оказалось огромное количество людей самого разного происхождения, которые говорили по-русски, выросли на «строчках из Александра» и никакой местечковой идентичности не имели и иметь не хотели.
Вся эта огромная масса русских по происхождению, языку, идентичности людей, во-первых, оказалась жертвами явной (как в Прибалтике и на Украине) или скрытой (как в Казахстане и т. д.) дискриминации и дерусификации, а во-вторых, тянулась к России, которая при Борисе Ельцине и ещё долго после Ельцина категорически отказывалась от того, чтобы выступать перед миром как государство русской нации, защищающее русских только по происхождению.
Весь смысл пропагандировавшегося у нас «россиянства» состоял в паспортном патриотизме, по которому за беловежскими границами — на Украине, в Казахстане, Латвии и Эстонии — «свои» для русского человека должны были кончаться и боли и печали их никак не должны были его касаться. Разумеется, в этой либеральной утопии «России не для русских» и без русских были свои «дырки», через которые прорывался русский воздух. Прежде всего Севастополь. «Вы нам ещё за Севастополь ответите».
Игнорировать реальность русской земли и русских людей, оказавшихся за пределами РФ, было невозможно. И вот для обозначения этой реальности и возникло понятие «русский мир». Понятие нарочито расплывчатое, исключавшее, на первый взгляд, какие-либо территориальные претензии. Мол, просто живут в разных сопредельных независимых странах говорящие на русском языке люди, о которых России надо не забывать и которых соседям желательно хоть немного уважать.
Речь шла не о русской ирреденте, конечно, а о некоем расплывчатом культурно-языковом и моральном единстве, в котором порой остро чувствовалась всё та же российская «многонационалочка» — как в идее, что «народы СССР совместно победили фашистских агрессоров». Такой омногонационаленный русский мир одно время казался элитам РФ перспективным фактором «мягкой силы» на постсоветском пространстве.
Большую роль в популяризации понятия «русского мира» сыграл патриарх Кирилл — даже ещё в ту пору, когда не был главой Русской православной церкви. Именно по его инициативе был создан Всемирный русский народный собор (ВРНС), и русскость начала проявляться в общественном поле как живая и конкретная идея, накладывающая определённые моральные и политические обязательства. Однако патриарх как раз говорил о конкретном русском мире — о мире православия и русских. «Мы никогда не согласимся с теми, кто хочет видеть «Россию без русских», лишённой национального и религиозного лица», — подчёркивал он.
По-настоящему масштабным геополитическим фактором идею о русском мире сделала… постсоветская русофобия. Любые самые робкие попытки говорить о русском языке и культуре как о неких объединяющих постсоветское пространство факторах вызывали у русофобских элит новых независимых государств настоящие пароксизмы ненависти. Любая мысль о том, что на пространстве бывшего СССР может быть некая объединяющая идея и уж тем более идея русская — что русский язык и культура должны скреплять это пространство, а не беспощадно вытесняться, — были абсолютно неприемлемы что в Таллине, что в Тбилиси, что в Астане, что во Львове и оказавшемся под его влиянием Киеве.
На всём этом пространстве в той или иной степени развернулась борьба против всего, что могло ассоциироваться с русским миром, — с памятниками героям Великой Отечественной и георгиевскими ленточками, с русифицированными названиями и именами, с русскими кино и литературой. Ну и с самими русскими, которых всё ещё было слишком много и которые смели разговаривать и видеть сны на русском языке.
Особенно болезненно русский вопрос стоял на Украине. Поскольку никаких «природных украинцев» не существует, украинская нация может строиться и развиваться только в логике «зомби-апокалипсиса»: за счёт украинизации русских и навязывания русским фанатической сектантской идентичности. Русский Ваня из Харькова обязан был строить из себя Тараса и, по крайней мере, имитировать говорение на мове.
Разумеется, строительство украинской нации из русских могло быть только насильственным, принудительным, с использованием всех бюрократических рычагов. «Нерусофобский» режим в Киеве, каковым не слишком удачно пытался выступать режим Виктора Януковича, был концом для «украинского проекта». По этой причине киевский Майдан был неизбежен как госпереворот с последующим началом принудительной украинизации.
Последовавшие за ним события стали для русского мира точкой перехода. Стало понятно, что о «мягкой силе» и «ста народах, читающих Пушкина на ста языках», придётся забыть. Русский мир оказался невозможен без русского суверенитета. Единственным реальным способом защитить русских от дерусификации, русский язык и культуру от запрета оказался прямой российский суверенитет и недвусмысленная русская военная сила.
Либерал назовёт «неудачей» этот провал концепта «русского мира» как «мягкой силы». На самом деле, это был конец иллюзий и самообмана. Русский мир с самого начала был пространством расколотой и разделённой русской нации, оказавшейся в роли жертвы чужих национализмов на руинах единой страны. И единственным способом восстановить этот мир как было, так и остаётся собрать государство назад, причём собрать его не как «СССР 2.0», а именно как единую и неделимую Россию.
По этой причине закономерно, что сегодня русский мир рождается из винтовки и автомата, танка и мины, ракеты и боевого дрона.
И вот именно в момент «неудачи» русского мира как «мягкой силы» и обнажился его громадный потенциал в качестве великой трансграничной идеи. Внезапно оказалось, что довольно большое количество людей по всему миру готово сражаться и умирать за то, чтобы Донбасс был Россией, а его дети были защищены от террора нацистов-украинизаторов.
Внезапно оказалось, что Россия, сражающаяся на старый добрый манер за свою национальную территорию, за своё национальное единство, за язык и интересы русского этноса, не менее, а более привлекательна для множества людей во всем мире, чем Россия, которая пытается всем понравиться и не знает уже, кому и как отдаться.
Современный мир — это мир трансграничных идентичностей и идей. В этом недавно убедились и те, кто прежде ничего не понимал, с обострением палестино-израильского конфликта. Мало кто сомневался в том, что персонажи, которые корчат из себя «граждан мира» и рассказывают, что «патриотизм — последнее прибежище мерзавца», на самом деле являются гражданами Израиля и его патриотами. А вот то, что граждане Дагестана, ещё недавно считавшегося нашими чиновниками едва ли не иконой межнациональных отношений, будут громить аэропорт и буквально искать евреев в турбине самолёта, для многих оказалось новостью.
Россию пересекают сразу несколько мощных трансграничных идентичностей современного мира. Часть граждан России более лояльны к этим идентичностям, чем к самой России — и в гражданском, и в политическом, и в культурном смысле. И вполне может сложиться такая ситуация, когда конфликт этих идентичностей где-то далеко за нашими рубежами, куда нам даже не дотянуться, разорвёт Россию на части. Тем более что «многонациональская» идеология, транслируемая в самой России, нашу идентичность искусственно ослабляет.
У самой России сильной и влиятельной трансграничной идеологии, казалось бы, нет. Именно к этому факту апеллируют наши левые, призывающие вернуться к проекту «СССР 2.0». Мол, пока у нас был коммунизм и СССР представлялся первым в мире социалистическим государством, огромное количество людей во всём мире было советскими патриотами, готовыми действовать на благо Советского Союза даже против интересов собственной родины. С Россией же такого не будет никогда. Какое дело венесуэльцу до того, что русским в России хорошо, а полинезийцу — в чьих руках находится Киев? Значит, айда опять под красный флаг.
На самом деле, тезис о бесперспективности русской идеи и русского мира как глобальной трансграничной идентичности глубоко ошибочен. В современном мире не так уж много больших идей, которым хочется сочувствовать и за которые готовы умирать. Среди этих идей — русская идея, идея русского мира, пожалуй, одна из самых привлекательных.
В основе — православие, то есть концепт, что человек должен стремиться к стяжанию Духа Святого, к обожению. Очень трудно помыслить себе более высокий религиозный идеал, который сияет особенно ярко по сравнению с деградацией западных христианских конфессий, капитулирующих перед обмирщением и содомией-трансгендером.
Тот взгляд, то мировоззрение, которые транслирует великая русская культура и которые до сих пор сохраняет и развивает большинство русских, это опять же великий культурный идеал. Мировоззрение Фёдора Достоевского, его сочетание глубокой человечности, обострённого сострадания и религиозного одушевления, вызывало восторг и у немца, и у француза, и у японца, и у индийца, и у сирийца.
Быть «человеком Достоевского» — это понятная идентичность для немалого числа людей из любых уголков мира. А сам Достоевский — это и «всемирная отзывчивость», и «слезинка ребёнка», и «хозяин России есть один лишь русский», и «Царьград должен быть русским». Две стороны его мировидения, общечеловеческая и русская национальная, нерасторжимы. И достаточно подчеркнуть, что «достоевское» (а это значит и пушкинское, и гоголевское, и бунинское, и ахматовское, и солженицынское, а во многом — и толстовское) мировоззрение невозможно без русского национализма, и многие на Земле примут этот русский национализм.
Радикальный гуманизм Достоевского (при этом чуждый всякому безбожию, характерному для либерального гуманизма) казался Василию Розанову основой громадного будущего влияния России на мир:
«Я думаю, отсюда-то именно и вытечет, через век, через 1/2 века, огромное «нашептывающее» влияние русских на европейскую культуру в её целом. Под воздействием этой непрерывной и страшной любви к себе, полной такого самозабвения, такого пламени, уже скучающая «мещанскою скукою» Европа не может не податься куда-то в сторону от своего эгоизма и сухости, своей деловитости и практицизма. <…> … можно представить взрыв восторга, когда всем им показана страна, показан целый народ, где никогда никто не смеет обидеть «сиротку» не в имущественном, а вот в нравственном смысле, — обидеть «убогого» по положению, по судьбе, по «ломке жизни»».
Во второй половине ХХ века поворотной для огромного количества западных людей фигурой стал Александр Солженицын. И если для возбуждённых наших неосоветистов Солженицын — «русофоб, разваливший СССР», то для Запада (как и для не разделяющих неосоветчины людей в самой России) — продолжатель Достоевского. Его лагерные произведения — это рассказ о боли человека, нуждающегося в сострадании, требование настоящей человечности и добра, а не лицемерной равнодушной «толерантности». И в то же время Солженицын — самый беспощадный за последнее полстолетия критик одновременно и либерализма, и коммунизма, всех доктрин, основанных на идеологии безбожной эпохи Просвещения. При этом страстный русский патриот и националист, проповедующий всему миру идеи Николая Данилевского и Ивана Ильина и первый поставивший вопрос о непризнании Россией беловежских границ.
Мыслящий человек не может не прийти к выводу, что между радикальным гуманизмом, который при этом не ставит человека на место Бога, а, напротив, поднимает человека к нему, и «русским национализмом и мессианизмом», с одной стороны, есть некая таинственная связь. Что невозможно одно без другого. И если Евангелие Достоевского и пророчества Солженицына ему близки, то он должен быть за Россию не только в эстетическом или религиозном, но и в политическом смысле. Россия есть вселенская религиозная ценность.
Мысль, что на другом конце света всем всё равно, кому принадлежат Киев, Одесса и Харьков, тоже ошибочна. Огромному количеству людей в мире, не являющихся ни евреями, ни арабами, отнюдь не всё равно, кому принадлежат Иерусалим и Святая земля, — это даже при том, что зачастую они не являются ни иудеями, ни мусульманами, ни даже христианами. Большое число американцев из Библейского пояса, к примеру, является фанатичными израильскими патриотами, хотя они не имеют никакой фактической связи с еврейским государством.
Не так уж много усилий нужно для того, чтобы люди русской идеи во всём мире стали считать, что судьба человечества зависит от того, России или Украине принадлежит Киев и чьи монахи молятся в Киевских пещерах.
Русский взгляд на мир, соединяющий преимущества европейского подхода и античной традиции со свободой от извращённости либерального тоталитаризма и, с другой стороны, от специфичностей восточного мировоззрения, может быть гораздо более привлекательным образцом для глобального культурного стандарта, нежели то, во что превратился сегодняшний Запад.
Миру нужно культурное койне (некий общий язык), которое не принуждает к навязчивой колониальной гегемонии, как это произошло с койне западным и уже англосаксонским. Прогнозы о том, что скоро весь мир заговорит по-китайски, изначально были нереалистичны: китайская иероглифика слишком специфична, чтобы её органично освоили миллиарды людей, выросших на алфавитном письме. С тех пор, как в КНР обозначилось устойчивое падение численности населения, о китайском мире можно позабыть. В свою очередь, русский мир — вполне здоровый кандидат на формирование такого глобального культурного койне. Главное, все понимают, что русские не стремятся к мировому господству, но, с другой стороны, и не дадут себя в обиду.
Наконец, русский мир — это абсолютно открытая система. Русским действительно в той или иной степени можно «стать». Это не значит ни в коем случае, что «никаких урождённых русских нет», но приобщение, вхождение в русскую культуру и образ мысли, в русский мир, действительно гораздо проще, чем аналогичное по глубине вхождение в большинство других обществ. Достаточно вспомнить об иеромонахе Серафиме (Роузе) — американском интеллектуале, ставшим не просто православным монахом, а абсолютно органичной частью русской православной традиции.
Люди со всех концов мира, всех языков, стран, рас, вкусов и убеждений вполне могут принадлежать русскому миру, быть горячими, даже фанатичными его приверженцами, быть патриотами не только языка и культуры, но и России как государства.
Русское начало, русский взгляд на мир настолько великолепны и духовно значительны, насколько всеобъемлющи и возвышены как идея о том, что приобщиться к ним для любого человека значит обрести высшее качество бытия. Не надо весь мир мерить меркой западного материализма и полагать, что для того, чтобы Россия была привлекательной, нам нужно создать свои «айфоны» и свои «манги».
Русский образ жизни и образ мышления, сочетающие упорство в традиции и здравомыслии с дерзновенной мечтой и прогрессом, неподатливые перед агрессивной тоталитарной «толерастией» и колониальным гегемонизмом Запада, очень привлекательны — в том числе и на самом Западе среди нормальных людей. Россия, устремлённая в космос и к освоению неизведанных пространств, как и Россия, устремлённая к высшим нравственным идеалам Достоевского и высшей религиозной идеи православия, имеет не меньше прав на то, чтобы стать духовной родиной для миллионов и миллиардов не принадлежащих ей по плоти людей, чем многие другие религиозные и политические доктрины.
Именно быть русским значит быть человеком вполне — без низостей англосаксонского либерального лицемерия. И это, конечно, понятно не только в Москве или Старой Руссе, но и в Париже, Нью-Йорке, Ниамее.
Таким образом, русский мир — это не только наша национальная, но и вселенская идея. Устроить этот мир «по-русски» — прекрасная перспектива и для русских, и для нерусских.
По этой причине пропагандировать русский мир мы должны не только как локальную цивилизационную идею по Николаю Данилевскому, но и как всемирную и всеобщую идею по Достоевскому. Как писал Фёдор Михайлович:
«Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нём-то, и только в нём одном, и заключается спасение мира, что живёт он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной».
Егор Холмогоров
Помощь сайту: Отправить 100 рублей
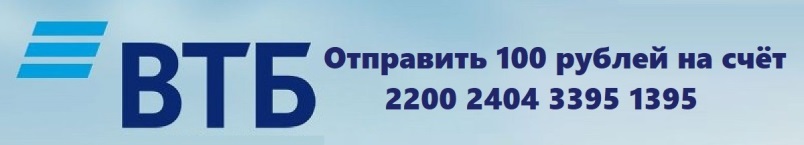
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — readovka.space

