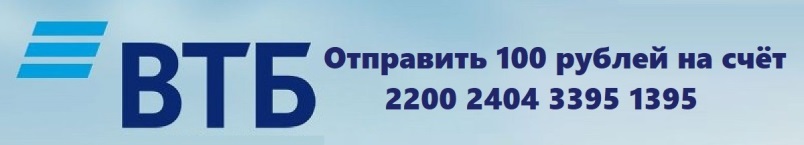Аналитические воспоминания очевидца дают представление о том почему люди вступали в Русскую Освободительную Армию ген. А.А. Власова. Впоследствии многие из тех кто пережил немецкий плен и оказался на западе стали прихожанами Русской Православной Церкви Заграницей.
Когда в 4 часа 20 минут утра 22 июня 1941 года „преступные банды немецких фашистов, внезапно и предательски нарушили неприкосновенность священных границ Советского Союза», Красная Армия — „плоть от плоти, кровь от крови» советского народа, не пожелала, на всем протяжении от Балтийского до Черного моря, защищать эти „священные границы». Бросая оружие, её бойцы и командиры сдавались в плен, или панически бежали вглубь страны.
„Ни одной пяди советской земли мы врагу не отдадим!»
„Бить врага на его же территории!»
„Боец Красной Армии врагу не сдается, он борется за свою Родину до последней капли крови, до последнего вздоха!»
Советская земля отдавалась в руки врага тысячами квадратных километров, враг громил Красную Армию на советской территории, а бойцы и командиры этой армии десятками и сотнями тысяч сдавались в плен.
Даже в первом официальном сообщении о нападении немцев, все от начала до конца было ложью. Не „банды немецких фашистов», а наступала регулярная прекрасно вооруженная, организованная, дисциплинированная, воодушевленная победами немецкая армия, руководимая генералами прусской военной школы, иронией судьбы, выполняющими приказы параноика Гитлера. Не „внезапно», ибо и на Западе, и в Кремле, прекрасно знали о подготовлявшемся вторжении. Собрать силы почти в два миллиона человек, расположить их на линии протяженностью почти в две тысячи километров и сделать все это в полной тайне — вещь невозможная.
В Бессарабии, на Западной Украине, в Литве, Латвии и Эстонии, даже момент начала немецкой атаки довольно точно определялся населением. Сталина предупреждала английская разведка, из Германии советские агенты посылали соответствующие донесения, командование частей Красной Армии, расположенных вдоль демаркационной линии, разделяющей „зоны интересов» СССР и Германии по соглашению от 1939-го года, докладывали о подготовке агрессии. В нападении немцев на Советский Союз внезапности не было. Предательства тоже не было.
Подписывая соглашение об очередном разделе Польши, Риббентроп и Молотов прекрасно знали фактическую ценность его. Для нацистской Германии, как и для коммунистического СССР, подписание соглашения было тактическим приемом для выигрыша времени в большой политической игре. Германия обеспечивала себе относительно безопасный тыл и снабжение сырьем, горючим и продовольствием из Советского Союза. Даже 21-го июня товарные поезда пересекали границу с востока на запад…
Советскому руководству необходимо было выиграть время, чтобы окончательно подавить сопротивление населения в балтийских странах и в Западной Украине, укрепить новую границу, переорганизовать свои вооруженные силы, разгромленные Сталиным после дела Тухачевского.
Когда СССР, после захвата Литвы, Латвии и Эстонии и значительной части трритории Польши, вышел на новые „священные границы», возникла срочная необходимость создания новой укрепленной полосы, ибо старая оказалась далеко в тылу. Сразу же, после заключения соглашения с Германией, „ударными темпами» началось строительство этой полосы. Десятки тысяч инженеров и техников были сняты с работ в промышленности и направлены на строительство так называемой сталинской оборонной линии.
С весны 1941-го года немцы начали подтягивать свои войска вплотную к границе. Летчики советской разведынательной авиации, которым было категорически запрещено приближаться к демаркационной линии ближе чем на один километр, видели, с высоты своих полетов, как возникали в приграничной полосе лагеря пехоты, артиллерийские парки, скопления танков. Когда они рапортовали начальникам о своих наблюдениях, им приказывалось: „Молчать! Никому ни слова об этом!»
Война началась налетами немецкой авиации по всему фронту. На атакованных 66 советских военных аэродромах было уничтожено 1500 самолетов, в воздушных боях первого дня войны, советская авиация потеряла 350 боевых машин, немецкая только 32 самолета. В первый день войны немецкие войска продвинулись в среднем на 50-70 километров вглубь советской территории. За первый месяц военных действий Красная Армия потеряла 10.388 артиллерийских орудий, 13.146 танков и 6.082 самолета. В немецком плену очутилось 895.000 советских бойцов и командиров. Немецкие вооруженные силы углубились на 500-700 километров на советскую территорию.
Количество пленных катастрофически увеличивалось. В Киевском окружении в сентябре 1941-го года в плен попало 600.000, у Вязьмы еще 600.000 бойцов и командиров Красной Армии. В плен сдавались одиночками, небольшими группами, целыми подразделениями, полками, дивизиями, даже целыми армиями.
Сколько было взято немцами пленных до зимы 1941 года? На этот счет нет ни советских, ни немецких точных данных. Есть приближенные цифры — 3-5 миллионов! Возможно, их было 5 или 6 миллионов. Много советских военнослужащих, попавших в плен, погибло на полевых сборных пунктах, в наскоро созданных лагерях, или осенью-зимой 1941-го года в сотнях лагерей в Польше, Литве, Латвии, Эстонии. Погибли от голода и холода, от дизентерии, от сыпного тифа.
Никто не считал сколько людей замерзло зимой на полях, оцепленных колючей проволокой, в ямах, вырытых голыми руками. Вероятно, уже никогда и никому не удастся собрать достоверных данных о количестве попавших в плен в первые месяцы войны и о числе, переживших первый год плена, советских военнослужащих…
С первого дня войны от линии фронта на запад двигались бесконечные колонны пленных. Они шли пешком, их везли на грузовиках, в товарных железнодорожных вагонах, где они стояли вплотную друг к другу. Ими заполняли до отказа тюрьмы, военные казармы, общественные здания, школы на оккупированной немецкими войсками территории. Их загоняли как стада скота, в наспех обнесенные колючей проволокой участки поля или леса.
Сталин в свое время отказался подписать конвенцию Международного Красного Креста, регулирующую содержание военнопленных воюющими странами, их права, обеспечение их продовольствием, одеждой, необходимыми бытовыми условиями. Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, основываясь на положении устава Красной Армии и словах присяги о том, что советский боец в плен не сдается, а борется с врагом до последнего вздоха, до последней капли крови. Поэтому немецкое командование считало, что оно не несет никакой официальной ответственности за участь советских военнопленных, ибо и условия содержания немецких военнослужащих в советском плену, не подлежали контролю Международного Красного Креста.
Для подавляющего большинства военнопленных, вне зависимости от их звания и служебного положения, даже независимо от их политических убеждений, результаты первых месяцев войны убедительно свидетельствовали О: жесточайшем поражении Красной Армии, которое многие расценивали как признак предстоящего полного краха советской власти. Прошлого уже не было, настоящее ( было нечеловечески тяжелым, а будущее абсолютно неизвестным.
Редко у кого до войны существовало чувство | .советского» патриотизма. Чувство национального патриотизма было, несмотря на то, что его, особенно в национальных республиках, приходилось тщательно скрывать.! Немцы занали об этом „подспудном национализме» и пытались его использовать.
Первое искусственное расслоение массы пленных немцы пытались осуществить по чисто национальному признаку. Башкиры, буряты, татары, узбеки, таджики, некоторые кавказские народности, изолировались от остальной массы военнопленных, и впоследствии оказались в составе так называемых „восточных батальонов». Во всех полевых и пересылочных лагерях прежде всего отсеивали евреев.
Принцип отсева был прост: имя, фамилия, семитская внешность и, конечно, ритуальная особенность евреев-мужчин — „Спусти штаны и покажи свой паспорт!» Отобранных немедленно увозили и, как правило, уничтожали… Потом изолировался политический состав -политруки, комиссары, работники политуправлений. Рядовых членов партии и комсомольцев не разыскивали, тем более, что они, уничтожив свои документы, смешались с общей массой. Свои их обычно не выдавали. Командный состав отделялся от красноармейцев при первой возможности. Литовцев, латышей, эстонцев и галичан отпускали по домам.
В пересылочных лагерях огромные скопления пленных почти не получали пищи. Голод порождал злобу, возмущение, деморализацию, страх смерти, стремление отыскать виновников происшедшего несчастья. Голодные, обозленные, грязные и оборванные советские солдаты и командиры вдруг, внезапно для себя, сделали открытие, — в плену они получили свободу слова. Можно было во всеуслышание говорить, что угодно, а главное, ругать кого угодно. Ругали немцев за то, что нечего было есть, что не было курева, что не было даже возможности помыться. Но неизвестную политическую систему национал-социализма, символ которой, в виде большого красного флага с черной свастикой на белом круге, развевался над лагерем, ругать не осмеливались.
Зато полился бесконечный поток ругани по адресу той политической системы, в которой пленные еще совсем недавно жили, которая их воспитала и которую они должны были защищать до последней капли крови. Сталин! Коммунисты! Советская власть! — вот кто во всем виноват. Люди пьянели от возможности обложить трехэтажным матом „великого отца и учителя» Сталина, ЦК партии. Политбюро, комиссаров, политруков, секретарей обкомов и райкомов, энкаведистов.
Те, кто попроще, вполне удовлетворялись площадной руганью, те же, кто „поученее», подвергали жесточайшей критике марксизм, ленинизм, сталинизм, коллективизацию, всю общественно-политическую систему коммунизма. Вспоминали террор ЧК, раскулачивание, созданный Сталиным голод в 1932 году. Ругать и критиковать недавно пережитое было можно, а вот защищать, даже в очень мягкой форме, жизнь и порядки в сталинской империи, делалось все труднее и труднее. Через пару недель плена, за случайно оброненное привычное обращение „товарищ» можно было получить оплеуху. Все стали „господами»!
Начал проявляться, скрываемый при советской власти, но подспудно существовавший в народе, антисемитизм. Запрещенное слово „жид», заменило легальное.- „еврей». В дореволюционное время, в центральной России, в народе и обществе антисемитизма не существовало. Фактически проявлялся он в районах черты оседлости. Но там иногда возникавшее отвратительное явление „погромов», широкими кругами населения осуждалось. Русский, а потом и всесоюзный, антисемитизм стал возникать и распространяться в результате все увеличивающегося присутствия лиц еврейского происхождения во всех правительственных и партийных учреждениях, а в особенности в карательных органах. Для народа свой „Ванька-коммунист» был „сукиным сыном», но какой-нибудь Абрам или Исаак приобретал символ „жида-кровопийцы», „христопродавца».
В Советском Союзе антисемитизм преследовался и сурово карался, но этим только „подливалось масло в огонь». И вот, долго скрываемое и караемое отождествление народом аппарата советской власти на всех его уровнях с еврейством, вырвалось в плену на поверхность с большой силой. Но, тем не менее, жестокое преследование, вылавливание, уничтожение евреев отрицательно воспринималось подавляющим большинством военнопленных. Для обнаруживания евреев в лагерях Гестапо использовало лагерную полицию…
На территории Польши, недалеко от города Седлец, на окраине поселка Подлесье был устроен большой сборно-пересылочный лагерь для пленных советских военнослужащих. Для командного состава был отгорожен участок с тремя палатками огромных размеров, которые вмещали около трех тысяч человек. Рядом, в открытом поле, отгороженном колючей проволокой, было собрано более семи тысяч красноармейцев. Над лагерем маячили восемь деревянных вышек с пулеметами. Как и во всех других лагерях, власть в этом лагере принадлежала лагерной полиции, укомплектованной из пленных.
Существование полиции создало совершенно неестественные отношения в среде военнопленных, и нечеловеческие условия их жизни. В лагерях советских военнопленных, немцы передали внутреннюю администрацию в руки лагерных комендантов из военнопленных, опирающихся на подчиненную им лагерную полицию. На должности комендантов и полицейских, которых пленные называли „полицаями», подбирались, даже по советским стандартам, самые отвратительные типы.
Примечательно, что лагерная полиция имела значительно большее влияние на жизнь пленных командиров, нежели на жизнь пленных рядовых красноармейцев. Одной из причин этого было глубокое расслоение в среде „красных офицеров», не доверявших друг другу и боявшихся друг друга. Один „полицай» мог легко контролировать 70-100 пленных командиров, такой же „полицай», на которого приходилась даже значительно меньшая группа пленных красноармейцев, сплоченных в единую озлобленную массу, часто терял контроль над ней. Нередки были случаи, когда попробовавшего рукоприкладство „полицая» пленные красноармейцы избивали, и довольно серьезно.
В лагерях около Подлесья иссякли продукты пита для пленных, а подвоз их задержался. Перестали вь вать хлеб, даже не из чего было варить баланду. Не-стали выдавать сырое просо. Пленные командиры стг лись как-то превратить зерно в пищу. Растирали его камнях в муку, варили из нее на кострах похлебку. Ни кого непокорства они не проявляли. Иное дело — кр ноармейцы.
После трехдневной просяной „диэты», не долго до вечерней поверки, толпа красноармейцев В1 запно бросилась на проволочный забор и повалила е) Люди стали разбегаться во все стороны. Охрана откры огонь из автоматов и пулеметов. Говорили потом, ч было убито несколько сот человек. Никто не узна сколько пленных было действительно убито, а сколы поймано. Но всем было хорошо известно, что четыре „полицаям», узнавшим о готовящемся побеге и пытавпл мся предупредить немцев об этом, просто свернул головы.
В каждом лагере „полицаи» осуществляли полный кон троль над пленными. В их руках было все: кухня, сани тарная часть, администрация, распределение на работу суд и расправа. Официально пленные должны были назьг вать „полицаев» — „господин полицейский», между собой называли их „чекистами».
За малейшее возражение, за непонравившийся ответ, за невыполнение приказа, полицейские могли избить пленного до полусмерти, а порой, даже до смерти. „Полицаи» отбирали у пленных все, что имело какую-либо ценность: часы, приличные сапоги, кожаные пояса, хорошие шинели и обмундирование. Покорным за отобранное давали кусок хлеба или котелок баланды, сопротивлявшихся избивали. „Полицаи» старались ухудшить тяжелые условия жизни военнопленных, морально унизить людей, причинить им физическую боль.
Так что, самым страшным врагом пленных в лагерях были не немцы, которые несли внешнюю охрану лагеря, а превратившиеся в „полицаев» бывшие лейтенанты и капитаны Красной Армии. Иногда немцы-конвоиры даже защищали пленных от произвола „полицаев».
Осенью 1941-го года, в лагере для комсостава в Бялой Подляске, руппа пленных работала по устройству деревянных настилов-тротуаров между бараками. Работой руководил пленный лейтенант-полицейский. Он был вооружен длинной плеткой и, как бы хвастаясь искусством владения этим оружием, хлестал ею военнопленных. Делал он это без всякой причины, просто для собственного удовольствия. Наблюдавший за происходящим немецкий ефрейтор, подошел к полицейскому, взял у него плетку и стал её рассматривать.
— Хорошо сделана, — сказал он по-немецки. — Красивая. Произведение искусства.
Польщенный похвалой, полицейский стал объяснять немцу, как такую плеть изготавливают. Немец отошел в сторону и, внезапно, хлестнул плеткой полицейского.
— Красивая, и бьет хорошо. Не правда ли? Немец хлестал полицейского плетью по плечам и
спине, сопровождая каждый удар вопросом:
— Не правда ли, тебе это нравится?
Порядком избитый, перепуганный полицейский хотел убежать, но немец приказал ему остаться. Потом он вынул из кармана нож и изрезал „произведение искусства» на куски. Отбросив их в сторону, немец сказал:
— Ты, мой мальчик, еще маленький играть такими игрушками.
В декабре 1941 года смертность в лагерях была очень высокой. В Замостье, где находился другой „офицерский лагерь», каждое утро собирали по баракам умерших за ночь, и на подводах вывозили их на „могилки» — так называли огромные ямы, выкопанные за городом. Если очередная яма была еще не заполнена трупами, то её не засыпали до следующего дня. Работу по выкапыванию массовых могил и по перевозке умерших из лагеря, выполняли пленные под командой двух полицейских. Немецкий конвой только сопровождал ежедневную печальную процессию.
Однажды, в группу пленных, копавших ямы, был включен один караим. Немцы не преследовали караимов, как евреев, но на этот раз один из „полицаев прицепился к караиму и издевался над ним. Он загнал караима в самое глубокое место ямы, где работавшие обычно сменялись каждые четверть часа, и не давал маленькому, щуплень-кому человеку ни смены, ни отдыха.
— Не понимаю почему немцы цацкаются с вами, все равно ведь жиды, обрезанцы. Ты здесь и подохнешь! Не выпущу тебя живым из ямы! Лучше сразу ложись, — говорил „полицай».
Каждый раз, когда несчастный пытался выбраться из ямы, „полицай» сталкивал его вниз.
Внезапно, к полицейскому подошел солдат немец, и сильным ударом сбросил его в яму. Разъяренный „полицай» попробовал вылезти из ямы, но солдат слегка кольнул его штыком и приказал взять у караима лопату.
— Теперь ты работай, — приказал немец.
К восторгу всех пленных, солдат, угрожая штыком, заставил полицейского работать без отдыха до конца дня.
— Вот кому на том свете все грехи простятся, — комментировал событие один из пленных.
Подобные случаи не были исключениями. Даже немцам-врагам было противно смотреть, как одни военнопленные, наделенные немцами же властью, издеваются над своими бесправными товарищами по несчастью. Подчас полицейские воздерживались от проявлений жестокости, если поблизости находились немецкие солдаты.
Бараки набивали пленными до-отказа. В некоторых бараках были трехъярусные нары, на которых, плотно прижавшись друг к другу, спали военнопленные. Даже под нарами, возвышавшимися всего лишь на полметра от пола, все места были заняты. В бараках, где нар не было, спали на полу настолько скученно, что переворачиваться на другой бок можно было только всему ряду одновременно, по команде старшего в ряду. Полицейские же жили по 8-10 человек в барачной комнате, имели хорошие удобные кровати с подушками и одеялами. В комнатах были столы, индивидуальные шкафчики, стулья.
На кухне, где готовилась пища для пленных, обычно ;ежурил немецкий солдат, следящий за процессом варки. Распределением же баланды или сухого пайка по баракам, ведала полиция. „Полицаи» беззастенчиво грабили всех, отбирая для себя все, что получше и посъедобнее, и обеспечивали для лагерной „элиты» довольно сносное питание за счет всей массы пленных. Как и в СССР -закрытые распределители» для немногих, в условиях голодного существования многих.
Кроме того, награбленные у пленных вещи „полицаи» продавали „за проволоку», получая плату натурой — салом, хорошим хлебом, сахаром, свежими овощами, фруктами, даже пивом и водкой. Любая рабочая команда, выходящая за пределы лагеря, обязана была делиться с полицией всеми, полученными законно, или украденными, продуктами.
Даже санитарная часть в лагере была полностью в руках полицейских. Медицинский состав — врачи и санитары — находился „на откупе» у полиции. Продовольственный паек получался санчастью на списочное количество больных. Многие больные почти ничего не ели. Сообщения о смерти передавались в комендатуру с нарочитым опозданием на один-два дня.
В результате, весь персонал санчасти, как правило, получал по несколько пайков на человека. Самым страшным было попасть в санчасть людям с „золотом во рту». Те, кто имел золотые коронки или мостики, обычно не, выздоравливали. Их довольно скоро вывозили на „могилки», а золото попа-(ало в руки полиции.
Когда в западной литературе или кинофильмах рассказывается о плене военнослужащих союзных армий, о их жизни в лагерях за колючей проволокой, о внутрилагерных отношениях, всегда подчеркиваются внутренняя пайка, обостренный патриотизм, сознательная дисциплина, сохранение армейских традиций и норм поведения, конечно, абсолютная готовность всех пленных защищать свои права и требовать от администрации лагеря выполнения международных законов и правил обращения с военнопленными.
За спиной каждого француза, бельгийца, англичанина или американца стоял Международный Красный Крест. У советских военнопленных ничего не было — ни Международного Красного Креста, ни прав. Все они были брошены на произвол судьбы их правительством, заявившим, что советских военнопленных не существует. И судьба их определялась не столько военной властью армии, пленившей их, сколько людьми, которым немцы передали внутреннее управление лагерями, т.е. все теми же „полицаями».
Кто были эти люди, вернее, нелюди? Почему они пылали такой жгучей ненавистью к своим вчерашним товарищам по службе в „вооруженных силах Советского Союза»? Зачем они последовательно и настойчиво, порой с вертуозной изобретательностью, превращали убийственно тяжелые условия жизни военнопленных в настоящий ад? Что руководило ими? Вернее же — кто ими руководил?
Постепенно среди пленных начали возникать предположения. Хотя прямых доказательств не было, предположения постепенно перерастали в твердую уверенность в том, что лагерная полиция в немецких лагерях для советских военнопленных была — агентурой НКВД.
Судьба коммунизма повисла на волоске. Против Сталина и советской власти в первые месяцы войны „проголосовали ногами» более трех миллионов военнослужащих Красной Армии. Очень многие из них сдались в плен только потому, что считали, что хуже советской власти ничего быть не может.
Перед армейским политическим руководством встала необходимость, убедить бойцов и командиров, что немцы не только хуже советской власти, но и в том, что лучше умереть от вражеской пули на фронте, чем быть замученным в плену. Сведения же об участи пленных просачивались на фронт.
Поэтому соответствующие органы приложили усилия для максимального ухудшения положения советских пленных в лагерях. В плен были посланы специально подготовленные кадры, владевшие немецким языком и всеми качествами, позволявшими им втереться в доверие к немцам. Они и захватили в свои руки лагерную полицию.
И не случайно, избивая очередную жертву, приговаривали:
— Ты думал в плену спасение тебе будет? Нет, подлец, ошибся ты в расчетах своих! Тут, в Замостье, тебе и Колыма раем вспомнится!
Крепли и расползались среди пленных слухи: „полицаи» — те же энкаведисты, у них те же методы, и те же цели. И с новой силой вспыхивала ненависть к советской власти, к партии Ленина-Сталина, к коммунистам и к „вождю народов».
При первых же встречах массы советских военнопленных с тяжелой действительностью немецких лагерей, проявились отрицательные качества воспитанников коммунистической доктрины: „Бытие определяет сознание». Бытие было голодное, бесправное, безнадежное, а в сознании была лишь одна мысль — хоть раз поесть досыта. „Звериное бытие» оправдывало „звериное поведение». Моральные критерии, человеческая совесть, отошли в сознании на задний план, и уступили место диким животным инстинктам.
При перевозке пленных из лагеря в лагерь в Польше, одним из „промежуточных пунктов» была городская тюрьма в Барановичах. В здании тюрьмы находился командный состав, а прилегающая территория, огороженная проволочным забором, была местом для многих тысяч пленных красноармейцев. Командиров кормили два раза в день варевом из пшена и протухшей рыбы.
Есть эту баланду можно было только зажав пальцами нос. У многих еда вызывала рвоту. Учитывая „командирскую деликатность» немцы давали желающим горчицу. Три-четыре ложки горчицы несколько нейтрализовали вонь варева. Красноармейцам давали ту же баланду, но лишь раз в день, и без горчицы.
Однажды, вероятно, желая позабавиться диким зрелищем, немецкие конвоиры привели старую костлявую клячу, и отдали её пленным красноармейцам. Переводчик сказал:
— Вот вам мясо, можете сварить на кострах. Есть ли среди вас мясники?
Человек сто сразу же объявили себя мясниками. Они бросились на лошадь, и буквально разорвали её на части. Орудиями убийства лошади и „разделки» её туши были только камни и руки пленных. Через полчаса от лошади остались только кости и шкура.
А вот, другой пример, когда „бытие определяло сознание», но уже на офицерском уровне.
Примерно через три недели пребывания в промежуточном сборном лагере, почти три тысячи пленных командиров привезли в Замостье, в „офицерский лагерь». Колонну предельно голодных, грязных, оборванных, заросших бородами, уставших и озлобленных командиров, под усиленным конвоем, провели по улицам города, предварительно совершенно очищенным от населения.
Ворота лагеря были широко раскрыты. На дворе между бараками стояли длинными рядами бачки с супом, а за каждым бачком стоял немецкий солдат с черпаком. Несмотря на окрики охраны, через несколько минут каждый бачок был окружен сплошным кольцом пленных. Они протягивали к раздатчику котелки, пустые консервные банки, даже пилотки и фуражки.
Люди опьянели от запаха пищи, от одной только мысли о возможности утолить голод. Толпа еще больше сгрудилась. Немцы-раздатчики стали бить ближайших черпаками. Кто-то упал. Кончилось это безобразно: почти все бачки с супом были опрокинуты толпой и их содержимое разлилось лужами на песке. Раздалось несколько выстрелов. Испуганную толпу немецкие солдаты прикладами и палками отгоняли в сторону. Когда шум затих, раздалась команда: „Ахтунг!» Вышел комендант лагеря. Переводчик перевел, сказанное им:
— Я поражен полным отсутствием дисциплины и достоинства у вас. Офицеры, даже умирая, должны уметь себя держать соответственно своему положению. Я хотел лишить вас еды на весь день, но мне сказали, что вы вчера не получали питания. Поэтому я приказал сварить для вас суп снова и еду вы получите чрез три часа. Комендант помолчал и добавил.
— Польские солдаты умели вести себя с достоинством в такой же ситуации.
Через пару дней поляки, работавшие при комендатуре лагеря, пояснили, что имел в виду немецкий офицер. В 1939 году в этот лагерь привели большую группу пленных польских солдат, после пешего марша в 50 километров. Их тоже встретили бачками с супом. Поляки отказались есть, пока им не была предоставлена возможность почиститься и помыться. Правда, осталось неизвестным, кормили ли их накануне, и чем? Наверное, не сырым просом.
Никакой статистики или сведений из „достоверных источников» о том, сколько советских пленных погибло в немецких лагерях за зиму 1941-42 годов не существует, ибо таких „достоверных источников» не было, и их нет и сейчас. Есть только свидетельские показания отдельных лиц, переживших эту зиму в плену. По приблизительным подсчетам, относящимся к двум лагерям, можно пожалуй получить представление о смертности во всех лагерях советских военнопленных, ибо условия их содержания и обращения с ними, были повсюду почти одинаковы.
Так, в лагере в Замостье, к началу октября 1941 г. находилось около 6.000 пленных. В апреле 1942 г. в Германию из этого лагеря было отправлено 2.900 пленных. С октября до апреля из лагеря было вывезено примерно 800 человек, включая отпущенных на свободу галичан. Следовательно, примерно 2.300 пленных остались на „могилках». Свыше 40%!
Сходные данные имеются и о другом командирском лагере — в Бялой Подляске. Тут осенью 1941 г. было не менее 9.000 человек, а в Германию весной 1942 г. вывезли оставшихся в живых 5.500 военнопленных.
В лагерях для рядовых красноармейцев процент смертности был еще выше. Как рассказывают, пережившие эту зиму, пленные, большое количество красноармейцев содержалось не в лагерях, а на полях, обнесенных колючей проволокой, в землянках или под наскоро сооружейными навесами. В одном таком лагере около Пере-мышля, когда в ноябре месяце ударили морозы, за одну ночь замерзло более 2.000 человек! Выжившие рассказывали:
— Выкопали широкие траншеи и стаскивали трупы туда… Работали три дня.
Первые два-три месяца плена были голодными, но терпимыми. В день выдавали на человека полфунта хлеба, литр жидкого супа с перловой крупой, брюквой, картошкой, две-три вареных картофелины, по маленькому кусочку маргарина, иногда заменяемому миниатюрным кусочком колбасы, по столовой ложке свекольного повидла и по две кружки суррогатного кофе. Немцы говорили, что это 1.300 калорий. Пленные оценивали этот дневной паек в 900 калорий, максимум. В лагерях не было бань, санитарных устройств и прачешных для стирки белья. На весь лагерь, посреди двора были устроены общие уборные, над выгребными ямами.
Уже через несколько дней пребывания пленных в лагерях, началось нашествие вшей. Пленные по утрам разжигали костры и „выжаривали» паразитов из одежды, старались уничтожить их на теле и в волосах. Тела пленных были расчесаны до крови, начались нагноения, нарывы, заражения. Санитарная часть не успевала принимать бесконечные очереди, нуждающихся в срочной помощи.
К концу декабря в лагере построили дезинфекционные камеры. Всех пленных пропустили через „вошебойки» и бани, выбрили волосы повсюду на теле, обстригли наголо головы, дезинфецировали одежду и белье. Вши почти исчезли.
Однако питание ухудшалось с каждым днем. Заготовленные на зиму картофель и овощи, плохо укрытые, померзли. Мерзлый картофель загнивал, и количество его в супе уменьшалось. Почти исчезла крупа. Качество хлеба ухудшилось, муку заменяли какими-то примесями. Начался настоящий голод. Все мысли каждого военнопленного сосредоточились лишь на одном — на еде. В разной степени интенсивности все заболели голодным психозом.
Прежде всего, это сказывалось на методах распределения пищи, получаемой с кухни на обитателей барака или отдельной комнаты. Сами собой возникли правила для проведения „священного» ритуала раздела пищи, обеспечивавшие абсолютную справедливость.
После снятия „вершков» лагерной и барачной полицией, паек поступал в руки „делилыцика» в комнате. Этот человек должен был быть опытным и безупречно справедливым. Соотношение „жижицы» и „густоты» в каждой порции должно было быть совершенно одинаковым. „Делилыцик» мерными движениями черпака, емкостью в одну порцию, тщательно размешивал содержимое бачка и в определенный момент брал порцию. Полсотни людей напряженно и ревниво следили за каждым его движением.
Хлеб выдавался в трехфунтовых буханках и каждую буханку нужно было разделить на шесть одинаковых кусков. Сложность такого деления заключалась в том, что нужно было сохранить в каждой порции равное количество «мякоти и корочки». Сперва отрезались обе горбушки и средняя часть делилась на шесть частей. Каждая горбушка делилась на три части. Таким образом, каждая порция состояла из большого куска — „серединки» и добавки — „горбушки».
Потом эти порции тщательно уравнивались по весу на самодельных весах, а затем все порции раскладывались на столе или на полу. Раздатчик указывал на порцию и спрашивал старшего комнаты, стоящего спиной к порциям — „Кому?» Старший называл имя. Называть имена нужно было не подряд по списку, а вразбивку, каждый раз меняя порядок очередности. Этот процесс дележа хлеба назывался „раскомукивание». Так выполнялся основной и незыблемый закон справедливости.
Голод наделил всех пленных единым чувством пустого желудка. Все были одинаково истощены и голодны, все искали путей сохранения жизни. И разные люди по-разному находили эти пути. В лагерях выявились психологически сходные индивидуумы, образующие определенные группы с общими данными.
Есть такое выражение: „доходит человек». Так говорят об умирающем. В плену появилось определение: „Доходяга». Если говорят: „доходит человек», это обычно значит, что он скоро умрет. „Доходяга» же в лагере мог жить сравнительно долго, а иногда, пережив голод и все болезни, сохранял жизнь до конца плена. Слово „доходяга» имело смысл психологически более глубокий, нежели только определение физического состояния человека.
Среди пленных-„доходяг» было много людей с высшим образованием, имеющих понятие в вопросах питания, калорийности, расходования энергии и пр. Некоторые из таких „доходяг» утверждали, что они должны экономить каждое свое движение, ибо физические усилия требуют расхода энергии, т.е. калорий, которых в пайке содержалось в четыре раза меньше, чем требуется для человеческой жизни. ‘Поэтому они старались проводить все время в лежачем положении на нарах и, даже, запасшись какой-нибудь посудой, мочились там же. Такие „доходяги» в большом числе гибли от ослабления всех жизненных функций организма, находящегося в постоянной неподвижности.
Прямой противоположностью „доходяг» были, так называемые, „шакалы». Это были, в сущности, психически больные люди. От постоянных голодных спазм в желудке, они теряли контроль над собой, и в течение всего дня бродили по лагерю, в особенности вокруг кухни, складов и помойной ямы, в надежде найти что-либо съестное. Кусок гнилой картошки, брюквы или свеклы, бумажка с пятном жира, кость, — все это „шакалы» заносили в разряд съестного и мгновенно проглатывали, не моя. „Шакалы» были способны на воровство пищи у других пленных — самое тяжкое преступление в лагере. Если „шакала» ловили с поличным и избивали за кражу, он покорно принимал наказание, стараясь скорей проглотить украденное. Главными жертвами „шакалов» обычно были „доходяги». „Шакалы» чаще других пленных умирали от желудочных болезней, дизентерии и отравления.
Эти две группы — „доходяги» и „шакалы» — были уродливыми крайностями в среде пленных. Большинство же находилось между этими крайностями и здоровым, если можно так сказать, центром
Здоровый центр — люди с некоторым запасом здравого смысла, самодисциплинированные, обладавшие силой воли. Их было не мало, примерно 20% всех пленных. По утрам они умывались, многие брились, подстригали волосы, стирали свою одежду. К случайно попавшей в их руки „пище» они относились с осторожностью. Очищали, обмывали её и старались сварить перед употреблением. Эти люди охотно шли на любые работы в лагере, чтобы не загнивать заживо на нарах. Они болели меньше других. Те 50-60% оставшихся в живых, из общей массы пленных, после зимы 1941-42 гг., в основном и были людьми из здорового центра. В процессе естественного отбора они оказались победителями.
Собственно, главной причиной гибели тех, кто остался на „могилках», был тиф. Во второй половине января 1942 года, в лагерях началась эпидемия сыпного и брюшного тифа. Немцы подвергли лагеря непроницаемому карантину. Тиф не щадил никого. Умирали „доходяги», „шакалы», люди из центра, „полицаи», санитары и даже врачи. Немцы появлялись в лагере, одетые в резиновые комбинезоны, в резиновых перчатках, с масками на лицах, густо посыпанные каким-то желтым порошком. Завтрашние трупы выволакивали из бараков вчерашних живых; грузили тела на подводы, осыпали их тем же желтым порошком, закрывали брезентом и увозили на „могилки» очередной процент „без вести пропавших» советских командиров.
Смертность пленных увеличил и „жом». Оказалось, что минимальный паек питания пленных можно было еще уменьшить. Запасов для пропитания пленных, сделанных осенью, хватило, как их ни растягивали немцы, только до конца января. На кухню стали подвозить… жом, т.е. отбросы производства сахарных заводов.
Жом — это клетчатка свеклы, после вытяжки из нее всех соков. В сельском хозяйстве жом часто употребляют для подкормки скота, в виде примеси к нормальному силосному корму. Жом стали варить для военнопленных, с добавкой к нему гнилой промерзшей картошки, брюквы и остатков частей туш лошадей и коров, обычно в пищу не употребляемых. Человеческий желудок не способен переваривать жом. В результате, количество желудочных и кишечных заболеваний возросло.
К тифу и жому прибавились дизентерия и цинга…
За зиму человек десять покончили жизнь самоубийством. Несколько повесились, другие перерезали себе вены.
Тиф исчез так же внезапно, как и появился. Умерли, вероятно, все, кто не имел естественного иммунитета против этой болезни. В середине марта 1942 года карантин был снят и питание, так же внезапно, значительно улучшилось. Питание пленных вновь стало голодным, но терпимым. И вся атмосфера жизни в лагере, тоже изменилась
Немцы стали вежливей, и развили бурную деятельность. Ежедневно проводились регистрации и перерегистрации. Составляли списки украинцев, магометан. Проводилась профессиональная регистрация артиллеристов, связистов, агрономов, инженеров-механиков, лингвистов, лиц имеющих ученые степени. Пошли слухи, что вскоре все население лагеря будет вывезено в Германию. Даже называли примерную дату — в конце апреля. Немцы слухов не опровергали.
Исчез страх пленных перед лагерной полицией и пленные показали зубы „полицаям». Однажды, в большой барак, с коридором во всю его длину, зашел „полицай» и за непонравившийся ему, показавшийся „не особенно вежливым» ответ „господина военнопленного», залепил ему оплеуху. Свершилось необычное. „Господин военнопленный» заехал по уху „господину полицейскому». Этого мало, собравшаяся толпа заблокировала выход из барака и заставила „полицая» извиниться перед пленным.
— Не извинишься, сукин сын, не выйдешь из барака, -кричали из толпы.
В другом лагере, тоже в Замостье, т.н. „больничном», над полицейским, мывшимся в бане, кто-то открыл кран горячей воды. „Полицая», совершенно обваренного, доставили в санчасть, где он умер через несколько часов. За две недели до отправки пленных в Германию, произошло уже настоящее убийство. Жертвой оказался один из самых жестоких и злобных полицейских в лагере. Рано утром тело „полицая» нашли в уборной, со связанными за спиной руками. Его голова, до плеч была опущена в содержимое выгребной ямы. Все тело было в крови. Очевидно, его долго и зверски избивали.
На стене уборной углем была сделана надпись: „Всем гадам — одна участь». Немцы наводнили лагерь солдатами, появилась даже городская полиция. Выстроили всех пленных, требовали выдачи убийц, кричали, угрожали. Через два дня все успокоилось, и инцидент был немцами предан забвению.
„Полицаи» стали ходить по лагерю только вдвоем или втроем, и явно нервничали, когда до них доносились из толпы пленных слова, которые были написаны на стене уборной: „Всем гадам — одна участь». С приближением дня отъезда роли переменились. Теперь не полиция терроризировала испуганную, расслоенную, деморализованную и покорную массу пленных, а сплотившиеся и почувствовавшие свою силу пленные, оставшиеся в живых после зимы, терроризировали „полицаев».
Снова среди пленных пошли разговоры о прошлом и будущем, снова появился интерес к настоящему. Говорили теперь не только о баланде и приварке, но и о том, что делается вне лагеря, на фронте, о положении Германии, о перспективах войны. Непосредственное общение с немцами при регистрациях и на всяких комиссиях по отбору специалистов, дало возможность получать различную информацию. Количество пленных, могущих изъясняться по-немецки, возрастало, да и переводчики стали говорить значительно откровеннее. У немцев уже чувствовалось уныние. Москва и Ленинград оказались вне досягаемости.
Красная Армия местами переходила в наступление. Американская помощь Советскому Союзу возрастала с каждым месяцем. Теперь уже многим становилось ясным, что победа Германии в войне — дело весьма проблематичное. В том, что плен можно пережить, уже мало кто сомневался, и во всем объеме вставал вопрос: а что станется с пережившими плен, если война кончится победой Сталина и НКВД?
У немецкого командования, по-прежнему, не было никакого определенного плана относительно советских пленных. В последний месяц перед вывозом в Германию, производились бесконечные перегруппировки и переселения из барака в барак. Создавались различные группы. „Инженерный» барак. Барак „связистов». „Мусульманский» барак. А через несколько дней создавали группы по иным признакам. Внезапно, отобранные инженеры и связисты, у которых в регистрационной карточке значилось в графе о национальности — украинец, переселялись в барак, названный „Украинское село».
С этим „Украинским селом» получилось совсем смешно, если слово „смешно» можно употреблять при описании жизни военнопленных. В лагере национальной розни между русскими, украинцами и белоруссами не было. В „Украинское село» людей переселяли автоматически, согласно регистрационных данных. Собралось около тысячи человек. Зачем и для чего, никто не знал, да и никто не интересовался. Вдруг, какая-то национальная украинская организация в городе прислала своим „братам» подарок: два воза продуктов. Хлеб, яйца, сало, мед, яблоки, лук, повидло.
Продукты выгрузили и под присмотром немцев распределили среди всех „официальных» украинцев. На следующий день все в лагере, у кого фамилии кончались на „енко» или „ский» объявили себя украинцами. Даже некоторые, с фамилиями, кончающимися на „ов», утверждали, что это ничего не значит, ссылаясь на фамилии знаменитых украинцев как Драгоманов, Костомаров, Ефремов и объявляли себя „ширыми» украинцами. Волнение в лагере возникло немалое. Все старались получить официальное признание „выгодной» национальной принадлежности, перед тем, как будет получен новый подарок „братам».
Но подарка не последовало. Пошли слухи, что украинская организация, пославшая подарок, стала требовать у немцев, чтобы украинцев отпустили на волю под поручительство. Организацию разогнали. Вскоре „Украинское село» превратилось в заурядный барак со „смешанным» населением.
После снятия карантина, когда начались регистрации, среди пленных пошли разговоры о „дырках в проволочном заборе». Так называли возможность выхода на „волю». Хотя на этот счет не было официальных сообщений, такая возможность явно появилась. Один пленный говорил другому: „Я сегодня записался в спецгруппу, наверное скоро уеду. Если хочешь выскочить из плена, обратись к унтеру такому-то. Только не болтай много об этом, дело пока секретное».
Фактически существовало две „дырки». Немцы набирали людей в тыловые караульные части для охраны мостов, дорог, железнодорожных станций, рельсовых путей. Желающего приводили в барак немецкой комендатуры. С ним беседовали два офицера, говорящие вполне прилично по-русски. Если разговор удовлетворял немцев, пленного переводили в „больничный» барак.
Там, все готовившиеся к караульной службе, получали полный армейский продовольственный паек. Их одевали в трофейную польскую военную форму. С ними велись регулярные занятия, и много времени уделялось восстановлению их физической готовности, к строевой солдатской службе. До ликвидации лагеря в Замостье, более 200 человек записалось в эту группу.
Другой „дырой» была возможность подать заявление о вступлении в русскую военную антикоммунистическую организацию, нечто вроде формирующейся русской армии. Те, кто захотел познакомиться ближе с этой возможностью, возвращались, после свидания с представителями организации, со смешанным чувством. Запись шла в отряд некоего Смысловского. Он в Замостье набрал группу в 37 человек.
Подавляющее большинство пленных командиров „осеннего набора» отказалось воспользоваться „дырками» и из Замостья они были вывезены в Германию. Общее настроение этих пленных продолжало оставаться антисоветским, резко антикоммунистическим. Даже за необыкновенно высокую смертность пленных в зимние месяцы, они меньше обвиняли немцев, нежели „свое» советское правительство и „вождя народов» Сталина. В этом была своя логика.
Говорили так: „Что немцы? От них другого нельзя было и ожидать. Получили в свои руки несколько миллионов нашего брата. Что с ними делать? Ни перед кем, никакой ответственности они не несли. Пленные для них — балласт, масса голодных ртов. Вот и удобрили польскую землю нашими телами. Кто виноват? Конечно, Москва, узколобый кретин, карапет Джугашвили! Предали нас». Хоть и говорили так, но в караульные немецкие части записываться не спешили.
Все думали о том, что по приезде в Германию они попадут на работу, будут встречаться с вольными людьми, что даст возможность лучше узнать и понять, что происходит в мире, и как-то найти свое место в нем. Все хотели вначале „присмотреться». Хотели „присмотреться» и те, кто выскочил на волю через „дырку в заборе».
Например, два друга, служившие в одной советской воинской части, попавшие в плен одновременно, пережившие вместе тиф и жом, по-разному решили свою судьбу. Один ушел в караульные части, а другой решил со всей массой пленных ехать в Германию. Вот их прощальный разговор:
— Значит, уезжаешь. Служить немцам будешь? Не ожидал я от тебя такого шага.
— Подожди осуждать, сперва послушай. Наперекор здравому смыслу выжил я. Кисмет! Лежал в бараке выздоравливающих и все думал и думал. Пришел к решению, что воспользуюсь любым случаем, чтобы выйти из-за проволоки. Что я на свободе буду делать? С кем и против кого я буду? Решу там, за проволокой. По собственной воле. Не могу я больше быть в этой гнилой яме. Может это психический заскок, но я больше не в силах жить, как животное в клетке, голодное и безвольное.
— Я не осуждаю, дело твое. Только не поспешил ли ты? Может, следовало бы присмотреться, что и к чему?
— Вот в том-то и дело. Как ты можешь присмотреться? Весь горизонт закрыт колючей проволокой и спинами немецких вахтеров с винтовками в руках. Как выбирать путь? Что мы знаем? Только то, что там дома сволочи из Кремля продолжают душить народ. Мы, волею судьбы, выскочили в совершенно иной, для нас незнакомый мир. Что мы знаем о Гитлере, о национал-социализме, о Германии, о Европе? Ровно ничего. Чтобы принять решение, что делать, нужно присмотреться. Чтобы присмотреться нужно быть по ту сторону проволоки. Туда я и иду…
В ночь перед отправкой эшелона с пленными, был убит еще один полицейский. Нашли его утром за бараком, где жили потерявшие власть, перепуганные „полицаи». Его удушили куском веревки. Немцы не задержали построения и вывода колонны из лагеря на железнодорожную станцию. Труп полицейского оттащили в мертвецкую.
На товарной станции Замостье, пленных погрузили в два длинных товарных поезда, по 50 человек в товарный вагон. 3-го мая 1942 года Замостье осталось позади.
Эшелоны не пошли сразу в Германию. Один из них, через сутки Медленного передвижения с продолжительными остановками, оказался на станции Остров Свя-токрестский. Здесь пленным предстояло прожить целый месяц в проверочном карантине, перед тем как быть впущенными в Германию.
Карантин помещался в мрачной старинной тюрьме при Лысогорском монастыре, в 35 километрах от железнодорожной станции. Путь туда был очень тяжелый. Во время марша произошел инцидент, подчеркивающий полную безответственность немцев за жизнь советских военнопленных.
Утром, когда начался марш, пленные, получившие хороший завтрак, шли бодро, даже пели песни. Но общая слабость быстро сказалась, и колонна стала двигаться все медленнее и медленнее. Немецкий конвой, под командой молодого лейтенанта, становился грубее, солдаты начали бить отстающих. На второй половине пути, один из пленных, совсем юноша, очевидно в состоянии психической невменяемости, вдруг выскочил из колонны и побежал вниз по скату холма.
Его, конечно, можно было легко поймать и вернуть в строй, но командир конвоя решил иначе. Он остановил солдат, намеревавшихся броситься в догонку, дал пленному отбежать на полсотню шагов, и выстрелом из винтовки убил его. Потом, повернувшись к строю похвастался, своей меткой стрельбой. Даже немецкие солдаты были поражены бессмысленностью и жестокостью хладнокровного убийства человека.
В Замостье полицейским дали отдельный вагон, предпоследний в составе. Последний вагон был пассажирский, в нем ехали немецкие солдаты. В Лысогорской тюрьме, группа „полицаев» тоже жила отдельно от пленных, в маленьком складском помещии около здания администрации. Каждый раз, когда кто-нибудь из „полицаев» выходил во двор тюрьмы, пленные встречали его свистом, руганью и угрозами: „всех вас к ногтю возьмем»! И тут, в Лысогоре, одного „полицая» убили. Его сбросили с отвесной скалы, ограничивающей с одной стороны тюремный двор. Обрыв был глубиной не менее ста метров. Труп „полицая» немцы нашли утром, и после этого около помещения полицейских круглосуточно дежурили немецкие солдаты.
Через месяц, окрепшие и поздоровевшие, пленные снова пешим маршем спустились с горы к станции Остров Святокрестский. Их снова погрузили в товарные вагоны по 50 человек. Полицейские получили опять отдельный вагон. В первую же ночь, вся их группа сбежала. Вероятно, воспользовавшись тем, что их не обыскивали, как всех других военнопленных, полицейские пронесли с собой какие-то инструменты.
Ночью они сделали дыру в полу вагона и когда поезд медленно двигался на подъеме в Карпатских горах, один за другим полицейские выскользнули на полотно железной дороги. Конвоир на площадке последнего вагона поднял тревогу, но пока поезд остановился, вся группа беглецов скрылась в горном лесу. Ехать в Германию „полицаи» не решились. Этот случай для многих явился дополнительным доказательством того, что если даже не все „полицаи», то, во всяком случае, главные руководители их, были агентами НКВД, специально засланными в лагеря военнопленных.
Когда эшелон с пленными достиг Германии, весь день двери вагонов оставались открытыми. В дверные проемы были вставлены перекладины и в каждом вагоне сидело по два конвоира. Кто-то решил похвастать перед пленными Германией. Страна еще не была разрушена авиацией союзников, и люди, никогда не видевшие Европы, проезжая через промышленные города и сельскохозяйственные районы, не уставая восхищались благоустройством и богатством увиденного.
7-го июня поезд остановился на станции Хаммельбург в горной Баварии. Здесь находился центральный лагерь для военнопленных офицеров. В пути конвоиры рассказывали, что в этом лагере содержатся более 30 тысяч офицеров-, французов, англичан, бельгийцев. По рассказам немцев, это был не лагерь, а курорт. Удобные бараки с отдельными кроватями. Бани, библиотеки, спортивные площадки. Приличное питание, с бесконечным потоком вещевых и продуктовых посылок Красного Креста. Пленные слушали рассказы и недоверчиво покачивали головами.
Все это оказалось правдой, но для пленных офицеров всех национальностей, кроме офицеров „национальности» советской. Эта Богом забытая „национальность» размещалась в так называемом „Русском блоке» Хаммельбургского лагеря. Жили скученно, получали голодный паек, значительно хуже, чем в Лысогоре. Правда, была баня, место для стирки белья, много солнца и чистого горного воздуха.
Была и внутрилагерная полиция, но вела она себя сухо-вежливо и занималась только поддержанием общего порядка в лагере. Ни плеток, ни палок, ни ругани. Никакого контакта с „коллегами» других национальностей не было и даже никто их и не видел. Блоки этих „баловней судьбы» находились на другой стороне огромной территории лагеря, за зданиями лагерного управления и казармами военной охраны.
За особым забором в „Русском блоке», в небольшом здании, жили пленные генералы Красной Армии. На территории „Русского блока» они не появлялись, и полиция к ним никого не пускала. Говорили, что там одно время жил сын Сталина, Яков Джугашвили.
В другом здании, тоже вне „Русского блока» была канцелярия политической партии под названием „Русская Трудовая Национальная Партия». С этой организацией, вероятно имевшей признание немцев, некоторые пленные старались наладить контакт. Однако, получить разрешение на визит в канцелярию партии было нелегко. Ходили разные слухи. Одни говорили, что это русская национал-социалистическая организация, под полным контролем Гестапо.
Другие утверждали, что это ядро широкого национального антикоммунистического движения, ставящего своей целью свержение советской власти, создание национальных антикоммунистических вооруженных сил, которые, как союзник Германии, должны принять участие в военных действиях против сталинского режима.
Также говорили, что в программе этой партии предусматривается создание особых групп, переброска их в тылы Красной Армии для подрывной работы и антикоммунистической агитации. Но все это были лишь слухи и догадки, не имевшие подтверждений, вызывавшие только бесконечные разговоры среди пленных, остававшихся изолированными от жизни и событий по ту сторону колючей проволоки.
Тем не менее, просачивались в лагерь скупые сообщения о том, что происходило в оккупированные областях. Узнали пленные об уничтожении евреев в киевском Бабьем Яру, об антинемецкой партизанщине, о жестоких расправах немцев с гражданским населением оккупированных областей, о возрастающих трудностях Германии, об американо-японской войне на Тихом океане.
Немного оправившиеся физически за время пребывания в карантине перед отправкой в Германию, пленные снова постепенно возвращались к голодно-депрессивному состоянию. Единственное спасение видели в получении работы. Было известно, что все пережившие зиму пленные красноармейцы работают на промышленных предприятиях или в сельском хозяйстве. Но офицеров пока на работы не посылали.
И вот, будто кто-то специально выбрал дату — 22 июня 1942 года, в первую годовщину войны, на утреннем построении всего „Русского блока», главный переводчик прочитал приказ командования лагеря. В этом приказе говорилось, что в ближайшие месяцы все пленные офицеры Красной Армии, от младшего лейтенанта и до полковника включительно, будут посланы на работы, по возможности, с учетом их гражданской или военной специальности. Посылка на работу будет производиться в обязательном порядке. Те, кто проявят неподчинение приказу или будут уличены в агитации против него, будут строго наказаны. Военнопленные должны пройти специальные комиссии, которые определят место работы каждого, вне зависимости от его желания.
На следующий день начали работать, комиссии и население лагеря стало быстро уменьшаться.
Несмотря на то, что, казалось бы, сбываются надежды на выход из лагеря и перемену положения „заключенного» на положение „рабочего по принуждению», сам факт бесправности пленных советских офицеров на фоне привилегированного положения офицеров других стран, вызвал новый взрыв негодования и обвинений по адресу советского правительства и, конечно, Сталина.
Сохранить жизнь! Не только сохранить её, но и использовать для чего-то большого и важного. В дни перед разъездом на работы, распространились слухи о начале какого-то организованного движения среди пленных, руководимого из генеральского барака. Одно лишь было ясно: если немцы разрешат какую-то организацию, значит это будет что-то антисоветское.
Полковник-связист, уезжавший на работы, хорошо выразил общие надежды:
— Бог помог сохранить жизнь, выжили! Может быть, Он поможет нам и употребить её по хорошему. Я надеюсь, что наши генералы придумают какой-то выход. Ведь много нас! Если правильно дело поставить, то и Россию можно освободить от Сталина, а Гитлера удержать на нужном расстоянии от России. Может быть, для этого и не дал нам Бог погибнуть там, в лагерях в Польше.
Так закончился первый год плена для многих тысяч командиров Красной Армии, очутившихся в немецкой неволе осенью 1941 года.
Вече, ном. 18 (1983), 129-158
Помощь сайту: Отправить 100 рублей
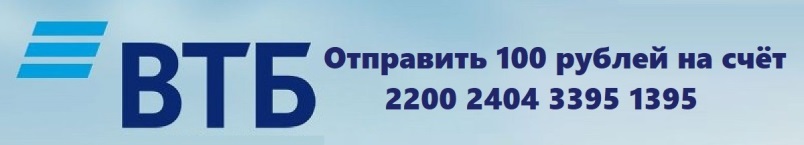
Одежда от "Провидѣнія"
Мастерская "Провидѣніе"
Источник — http://www.rocorstudies.org/